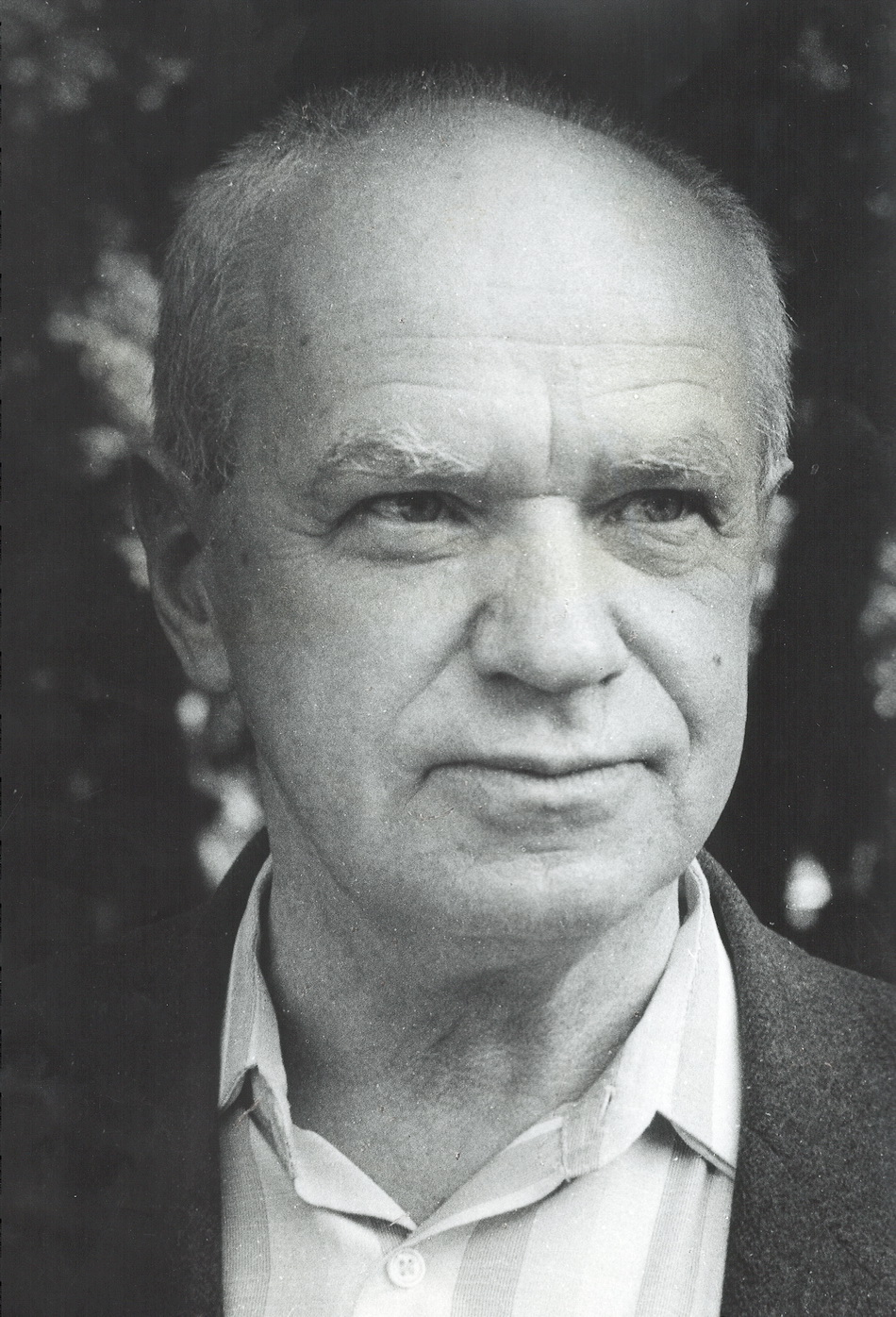БОГ В ПОМОЩЬ
***
Тоска… Декабрьская ночь, тишина… Не спится. Ах, как грустно!.. За окном — мутно-светло. Серебрится, зернисто блестит снег от мертвенно-бледной на чистом низком небе луны…
Включаю свет, и комната озаряется жидким, жёлтым неживым светом. Окно тотчас темнеет, зеркально блестит, и я ясно, чётко, как в настоящем зеркале, вижу свое отражение. Высокий, покатый лоб, лысая с седыми венчиками волос продолговато-круглая, как дыня, голова. Прямой и длинный нос, длинная гусиная шея. Глаз почти не видно, но я знаю, что они у меня жёлто-серые, кошачьи. Уши точно локаторы.
А за окном уже темно, глухо, слепо, ничего не видно, кроме отражающихся гостиничной квадратной комнаты, узкого стола, за которым тягостно сижу, кровати, застеленной кремовым в полоску покрывалом, висящей на железной палке голой лампочки, похожей на невидимую теперь луну.
Декабрь. Глубокая ночь. А мне почему-то вспоминается, видится бабий солнечный сентябрь, невесомо-стеклянный воздух, горбатая, крученая дорога и как я возвращаюсь из осеннего, праздничного леса с полной плетушкой грибов и мелких тугих янтарных диких яблок.
Шёл я тогда по-над огородами и неожиданно наткнулся на огуречную грядку. Она уже вся высохла, сжалась от долгой августовской жары. По бокам её лежали узловато-перекрученные, усталые плети.
И так грустно, печально, беспокойно стало мне. Трудно было поверить, что ещё недавно на этих зелёных, сочных, живых плетях темно светились, росли, прятались в густой жёсткой шершавой листве маленькие и большие, прямые и корявые огурцы.
И почему-то тогда вспомнилась моя мать. Она так же высохла, истончилась, пригнулась к земле, как эти плети. А ведь когда-то цвела, была молода, полна соками… И родила, вырастила, выпестовала шестерых сыновей и трёх дочерей.
Глубокая ночь. Декабрь. Канун Нового года. Я выключаю свет. И за окном опять весело сверкает, серебрится старый снег. Чернеют высокие, стройные старые деревья. И нет уже тоски…
Я еду к матери, которая живёт по-прежнему в деревне. Живут там и мои братья, сёстры. И только я, как осенний лёгкий лист, мотаюсь по белу свету…
***
Декабрьское морозное, здоровое утро. Я иду в соседнюю деревню Зоревку купить сигарет, чаю, новогодних открыток… До Зоревки километра три-четыре, и идти нужно голым полем через мелкий длинный Устюхин овраг.
Дорога маслянисто-накатанна, мраморно-тверда, розовато блестит против солнца. Холодный, жёлто-каменный плоский диск солнца слепит глаза, льдисто-розово окрашивая большое снежное поле, темнеющие рощицы, былки прошлогодних трав по краям дороги, крупные сиреневые колчи земли…
В чистом поле слегка поддувает, а идти жарко, приятно. Километрах в трёх от дороги, на пологом белом взгорке, в мглистой лёгкой дымке чернеет, чётко выделяется ровный прямоугольник берёзового леса. И кажется, будто там выстроился полк солдат для парада. По склонам оврага, из-под глубокого свежего снега, как гусиные лапки, торчат маленькие бледно-зелёные замёрзшие ёлочки.
Солнечно, однообразно, скучно блестит дорога. Обернёшься назад — дорога сразу тускнеет, становится синевато-серой… И вдруг вздрагиваешь от сухого, жёсткого, неожиданного верхнего скрипа — пролетает одинокий ворон, тяжело взмахивая жутко-чёрными, воронёно-блестящими крыльями.
И опять полевая зимняя тишина. Возле оврага, на самом краю его, стоят три тонкие молодые голые берёзки. Узкие округлые макушки их уныло обвисли. Лысые бурокоричневые ветви чуть покачиваются от ветра. Откуда ни возьмись — сразу всей стайкой упали, ссыпались на них снегири, повисли спелыми грушами.
И мне тотчас увиделось, вообразилось жаркое августовское лето, сиротливо-заброшенный, заросший высокой травой, заспанный яблоневый сад, сплошь унизанный на удивление крупной налитой янтарно-ароматной антоновкой, а у входа в сад — высокая сухая вековая груша с редкими румяно-спелыми плодами. Я помню до сих пор терпко-винную сочную мякоть, липкий, какой-то витой, сладкий сок на губах, пальцах, подбородке…
Возвращаюсь я на лесной кордон, где живу третий день, уже под вечер. Твёрдый золотой диск солнца медленно краснеет, становится малиновым, будто его разогревают, старательно накаляют в кузнечном горне, неправдоподобно стройная тень моя мерно шагает по синевато-молочному полю, тонкими длинными карандашами рассыпаны на придорожном снегу тени от былок…
Глухо, далеко, пустынно-гулко, как в пустой железной бочке, слышится из деревни зимний лай собак. Пахнет морозным сухим чистым снегом, далеким дымком, кислым мокрым навозом от недавно вывезенных куч…
Грустно, печально, безжизненно… Я достаю сигареты и, пряча зажжённую спичку в ковшике ладоней, отворачиваясь от ветра, закуриваю. При затяжке раскалённоугольный кончик сигареты коротко, резко пшикает, как мокрая порошина, золотисто-огненно сверкает, пуская ядовитый синий дымок. И растекаясь, он тает, растворяется в синеющем уже воздухе.
Безлюдные, потухшие, слепые поля. Металлически-гладкая, тягуче-серая, печальная дорога. А мне радостно, знобяще-сладко, хорошо…
Сиреневая предвечерняя пора. Душно, парит. Оранжевое солнце, светлые столпы в просветах густых рыжевато-пепельных туч на западе, сиреневые опушки леса, резиново-тугая дорога, полевая даль… Небесная игра красок, предзакатный огненный блеск, розовая туманность на дальних полях.
Деревья с западной стороны теплы, приятны, с восточной — как-то темны, холодны. И в бездонной выпуклой тверди неба прозрачные, серебристо-легкие облака, как дамасский газ. И нежно-малиновые цвета вокруг.
Иду, смотрю, встречаю: баба старая, древняя, юбка пёстрая, голова закутана платками — снизу белым, поверху толстым тёмным, шерстяным. В темных тонких руках склизкая ореховая палка, глаза — что ночь, сама прямая, тонкая, как молодая лозинка.
— Бог в помощь, — говорит она, покачивая высохшей ореховой головой.
— Бог в помощь! Бог в помощь! — откликаюсь я. А кругом — тишь, высокое изумрудное небо, горько-сладкий нектар полевых цветов, трав, мягкий стрёкот кузнечиков, глянцевитое море хлебов… И лиловая, тугая, накатанная дорога, виляющая к горизонту, тёмному, прямому, будто подстриженному ельнику.
И чья-то добрая забота, чьё-то заступничество в этом прекрасном и кровно близком нам мире были разлиты в эту минуту вокруг нас.
— Бог в помощь, — тихо сказала она опять.
— Бог в помощь, — ответил я.
А кругом всё зеленело, цвело, сладко спела рожь, пусто, поло куковала кукушка…
Заплатанное разноцветное небо, заплатанная печальная судьба! А я уже был где-то там, в той далёкой вышине…