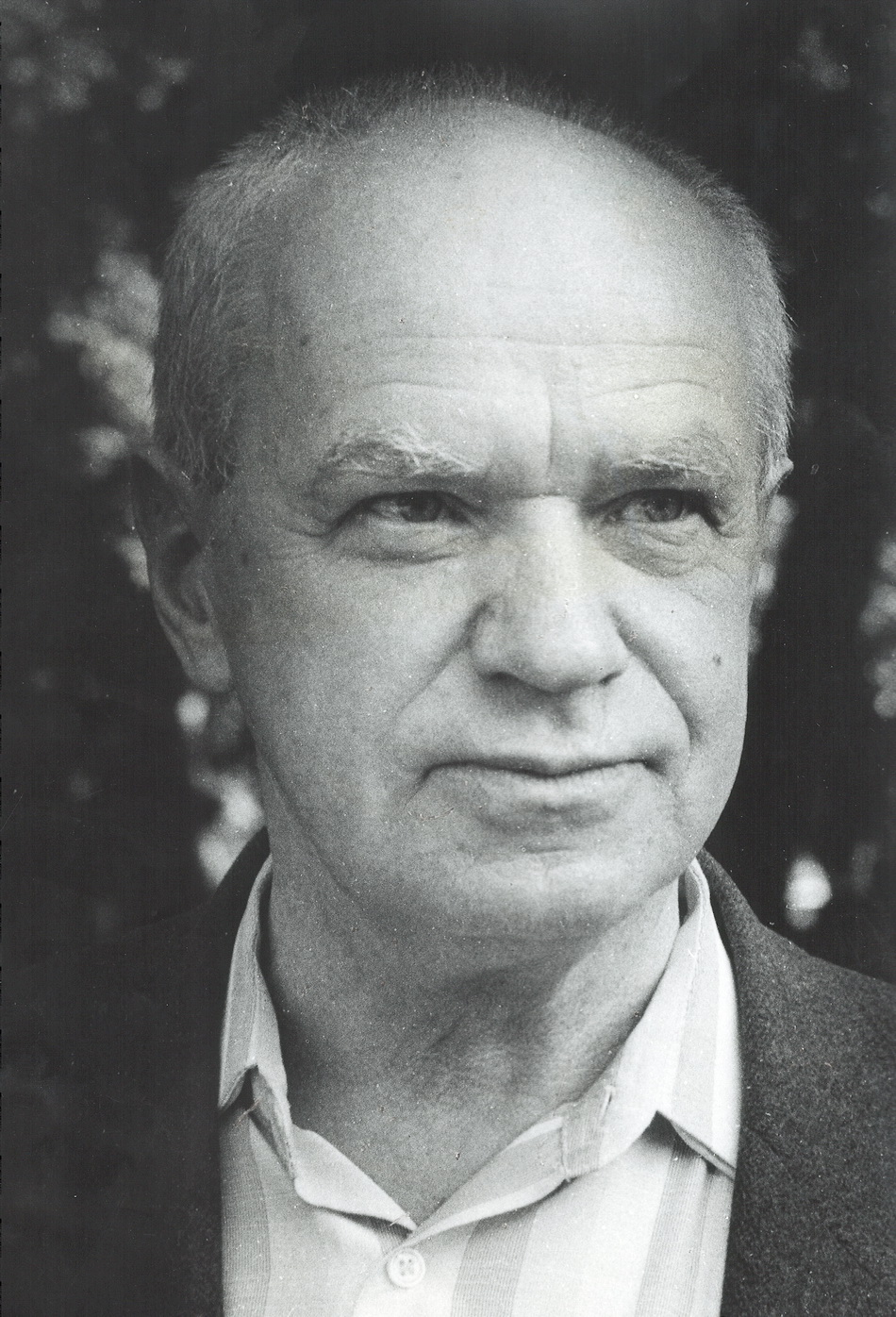ЗАПАХ ЗЕМЛИ
I
Весна в этом году выдалась ранней, и уже к концу февраля небо стало быстро очищаться от свинцового покрывала, стало наливаться синевой, и снег прямо на глазах начал набухать, сереть, терять свою миткальную белизну, оседать по пригоркам, и появились уже первые проталины, закурились, задымились паром в полдень. С крыш домов повисли, нацелились в землю острые, как пики, мутно‑белые с утра сосульки, и Матвей Козлов с опаской поглядывал на них, думал: «Тюкнет по башке такая и хана…»
Но думалось ему об этом почему‑то весело и приятно.
Он всегда с нетерпением ждал прихода весны и уже в январе жадно принюхивался к морозному крепкому воздуху и каким‑то своим особым звериным чутьем различал еще далекие и неясные запахи весны. Он шёл за овраг, где росли клены, и долго мял, растирал короткими и крепкими пальцами кленовые почки и от них начинало пахнуть молодым зелёным горохом. И Матвей волновался тогда, заходился от этого острого запаха.
Жил Матвей на самой окраине города, и поля, небольшие перелески были совсем рядом, а это тоже было ему приятно. Деревянный дом, построенный еще после войны, слегка уже осел, покосился слегка, потемнел от времени, и Матвею не раз намекали, чтобы продал он его и тогда дадут ему хорошую квартиру в центре города.
— Как никак ты передовик производства. Карточка вон твоя висит на Доске почета, — говорили ему.
Но он наотрез отказывался от этих предложений, хотя жена тоже настаивала, пилила его. И люди удивленно пожимали плечами.
— Чудит что‑то Матвей. С огородом, садом не желает расставаться — всё лишний рупь в доме, — предполагал кто‑нибудь.
«Дураки, — усмехался Матвей, слыша эти разговоры. — Ну и дураки…» Три яблони и груша — вот весь и сад его. Да две сотки земли, на которую Анна понатыкает и картошки, и луку, и моркови, и чёрт знает что. А в результате и не растёт толком ничего. Пробовал он по‑своему распорядиться этой землей, но куда там. «Не блажи, — кричит Анна, — всё лучок свой». «Какой там к чёрту лучок, всё равно на базар бегает… Ну и дураки..».
Ездить на работу тоже было далеко, почти в самый центр, работал Матвей слесарем на машиностроительном заводе, и не раз он злобился, ругал дорожные порядки, особенно утром и вечером — в часы пик, и мелькала мысль бросить завод и устроиться куда‑нибудь поближе. Но куда? Заводов и фабрик на окраине не было, а идти в артель скобяных изделий, что расположилась неподалеку, не хотелось.
— Что я инвалид, чтобы идти в эту шаромыжную контору? — супился Матвей, когда Анна, слыша, как он ворчит и ругает далёкую дорогу, духоту и тесноту в автобусах, уговаривала его устроиться туда — и заработает он там не хуже, и работа не пыльная, легче, чем на заводе…
Анна работала там счетоводом.
— Ну и работай, ежели нравится, — насмешливо отвечал Матвей. — А мне с инвалидами не с руки.
Был он крепок весь, слегка приземист и широк в кости, румянец так и пылал на его круглом мягком лице. И не болел, хотя пришлось ему холодать и голодать не раз — прошёл он всю войну и трудные послевоенные годы.
— Ну и здоров ты, Матвей, — удивлялись товарищи.
— А это во мне крестьянская жила крепкая, — хвастался он. — Вы и воздуха настоящего не хлебали, земли не нюхали…
Он любил землю, её запахи и как‑то стеснялся, не хотел объяснять, как город чужд и враждебен ему, хоть и живет он в нем, работает вот уже восемнадцать лет.
Родился и жил Матвей в деревне и никогда не думал, не предполагал, что придётся жить ему в городе, работать на заводе. С малых лет умел запрягать лошадь, подвозил сено к стогам, зерно на тока, а потом освоил и трактор, и после семилетки не пошел дальше учиться в школу в соседнюю деревню, а поступил на курсы трактористов и не мыслил уже другой работы.
Но война перепутала всё на свете. На войну Матвей пошел охотно, без страха и воевал старательно, будто делал нужную и привычную работу, но про себя всё ждал конца войны, чтобы вернуться домой, к земле, к своим крестьянским обязанностям. Но не сбылись мечты Матвея. Узнал он, что немцы разбомбили его деревню и погибли все его родные, и сжалось сердце Матвея от боли, от чего‑ то ещё, и стал он молчаливее, угрюмей и воевал ещё старательнее — к концу войны был он уже сержантом и имел орден и четыре медали, но где‑то тайно надеялся, что цела его деревня, и живы мать с отцом, старшая сестра; и только, когда вернулся и увидел, как разрушена и сожжена деревня и почти все погибли в той страшной бомбежке, поверил, что это правда, и не знал, что делать, куда податься.
— А ты поселяйся в моей землянке, — пригласил дед Афоня. — Заместо своего будешь.
И Матвей поселился у него. От деда Афони узнал все подробности: и как остановилась в их деревне наша батарея и, по словам деда, стреляла с утра до ночи — уж больно укрепились немцы на том берегу речки, а потом прилетели немецкие самолеты — тьма‑тьмущая — и зачали бомбить.
— И не приведи такое видеть, — дед Афоня закуривал и отворачивался от Матвея. — Стреляють наши, они — свету белого не видно. Нам, дуракам, бежать куда в поле, а мы забились по углам, а они долбають и долбають… — И дед Афоня задумчиво замолкал, затягивался вонючей, пополам с сушеными лопухами, махоркой, должно быть, вспоминал виденное, переживая его заново.
— И что дальше, дед? — торопил, напоминал Матвей. Не терпелось ему почему‑то услышать вновь о гибели деревни, родных, вообразить ту страшную картину.
— А ничего, — угрюмо отвечал дед Афоня. — Гахнуло по нашей хате и очухался я на огороде. Мотрю, а деревни‑то и нету. И тишь кругом мёртвая. Побег я к себе, а хаты не вижу. Все разворотило. И своих не нашел…
— А мои, дед?
— И твоих не видал — всех в куски, — неохотно и вяло уже отвечал дед Афоня и почему‑то добавлял: — И батарею поломали всю.
Дед Афоня вставал и звал идти собирать доски, оставшиеся бревна — строить избу.
— Не в этой же норе жить, — объяснял он. — Возвернутся вот другие фронтовики и зачнётся жизнь. Не помирать же… Вон и Марья что‑то хлопочить.
В деревне, кроме деда Афони, остались живы Марья Егорова с дочкой, Дашка Рожнова и тринадцатилетний Васька Скорнин. Но в Матвее будто что надорвалось внутри, не хотелось ему видеть эти развороченные пепелища, строить новую избу — был он скучный и вялый.
Стал он наведываться к дальней тётке в соседнюю деревню, пропадать там днями, стал чаще и чаще напиваться, и дед Афоня недовольно хмыкал, осуждал его.
— Энто, Матвей, зря ты. Сопьёшься ведь.
— А пошел ты, дед, со своими моралями, — неохотно отругивался Матвей.
— Мотри, — неопределенно отвечал дед Афоня.
А однажды, когда уже начали возвращаться другие фронтовики, Матвей, ни слова ни говоря, не попрощавшись ни с кем, уехал в город.
С тех пор и живёт Матвей в областном городе, хоть и не любит его. Не привыкнет он никак к его духоте и тесноте, к каменным запахам — нужен ему простор, запахи такой близкой и понятной земли, деревьев, трав… И в первое время, работая на стройках, живя в общежитии, он всё тосковал по родным краям и часто по утрам выбирался на окраину и неотрывно, до слёз смотрел на бескрайние холмистые поля, сизо‑дымные вдали леса, на песчаные поспевающие хлеба и вдыхал и не мог надышаться чистым, слегка сладковатым от трав, воздухом, и хотелось ему тогда всё бросить и тотчас уехать, вернуться опять в деревню, но он пересиливал себя, неохотно возвращался назад, на работу.
И когда женился на Анне, уговорил её не дожидаться казённой квартиры — им вот‑вот обещали дать, а построить свой домик на окраине — поближе к лесу, земле. А поселившись на окраине, Матвей повеселел, ожил как‑ то, посадил на приусадебном участке грушу, яблони и собирался посеять горох, немного ржи, а Анна заспорила, заругалась с ним, и Матвей, поупрямясь, поспорив немного, сдался — он любил Анну. И опять стал рано по утрам перед работой выходить за дом в поле, к оврагу, где росли клёны и берёзы. В последние годы опять напала на него жгучая тоска по своей деревне, по земле — хотелось ему пахать, сеять, делать привычную, но теперь далёкую и оттого ещё больше желанную крестьянскую работу.
II
Вот и сегодня Матвей поднялся чуть свет и, стараясь не разбудить жену, сына, быстро оделся и вышел на крыльцо. Утро было тёплым, не морозным, и капель остро клюнула его в макушку. Матвей вздрогнул, посмотрел наверх, а там уже нависла, как прозрачная изумрудная серьга, другая, и он ступил в сторону и радостно, с удовольствием засмеялся, а капели дробно и часто чмокали о доски, о тяжёлый снег, и там, где они падали, снег рябел, далеко и изломанно тянулась темная пунктирная линия.
«Скоро уж и жаворонки, скворцы прилетят», — отметил Матвей и зашагал по узкой тропинке в поле. Тропинка была утоптана, плотно‑тверда, но и на ней сегодня оставались тёмные, отчётливые следы от ботинок Матвея, стала наполняться влагой и она. И острей, резче запахло прелью от проталин, которых с каждым днём становилось всё больше и больше. И запахи эти тревожили, бередили Матвея. На душе было радостно и грустно одновременно. Весной часто виделась ему родная деревня и как там сейчас хлопочут на тракторном стане, стучат молотками, ключами — ремонтируют трактора, готовятся к выходу в поле. Вспоминал он, как когда‑то и сам бегал, ругался, ремонтировал свой старенький трактор, и ему страстно всегда хотелось первым выехать в поле, проложить первую борозду.
«Земля у нас жирная, богатая… Воткни оглоблю — и врастёт она», — Матвей усмехался своим мыслям и рвал кленовые почки и все нюхал и не мог нанюхаться — так сладко и хорошо они пахли горохом.
Вспоминал он и как дважды ездил к себе в деревню, и оба раза его звали, уговаривали вернуться назад. Особенно старался председатель — рабочие руки нужны были позарез — колхоз отстраивался, набирал силу, и председатель предлагал:
— Хочешь, бригадиром тракторной бригады поставлю, а?
Но в первый раз, Матвей и сам не предполагал, не ожидал, так заныло сердце при виде пустого, заросшего уже места, где когда‑то стоял их дом, так вообразилось всё, что навернулись слёзы, и он, переночевав у деда Афони, рано утром уехал и дал себе слово — больше никогда не приезжать. Было это давно — лет пятнадцать назад.
Но не сдержал своего слова Матвей, повстречал земляка и, выпив с ним, завспоминав прошлое, забыл обо всём, взял отпуск на заводе и уехал.
Деревня поразила его — он почти не узнал её — так разрослась, отстроилась она, забелела шиферными крышами, таких домов до войны и в помине не было. И только изба деда Афони выделялась своей старостью, ветхостью. Дед Афоня тоже был уже древен, старчески лёгок, но бодр и шутлив ещё, хоть и двигался мало, всё больше сидел на завалинке.
— А‑а, Матвеюшка, — узнал, засуетился он. — Заходь, заходь, дорогим гостем будешь. Аль не ндравится, богаче к кому хочешь, — насупился, обиженно спросил он, видя как замешкался Матвей, засмотрелся по сторонам.
— Ну что ты, дед, — ответил Матвей. — В отпуск вот приехал, примешь пожить?
Ему стало ещё радостней, что видит он живого деда Афоню, свои родные места, узкую, металлически поблёскивающую на солнце речку, в которой он чуть не утонул в детстве, а теперь она должно быть мелка и не так велика, как представлялось, вдыхает знакомые, слегка уж позабытые запахи навоза, полыни, тёплой земли, чего‑то ещё…
Он ждал, боялся, что при встрече с дедом Афоней, с местом, где когда‑то стоял его дом, опять всё вспомнится, станет больно. Но боль не приходила, залечилась от времени…
— Так как, дед, примешь? — весело переспросил Матвей. Дед Афоня тоже повеселел, оживился, видя, что Матвей не шутит, говорит всерьёз.
— А ты не мотри, что хата маленькая, не глазастая. Двоим нам места куда как хватит. Давай проходи, освежись с дороги. А я смотаюсь к Марье, яичков возьму.
— И Марья жива? — удивился Матвей. Он как‑то забыл о Марье Егоровой.
— Кхи, кхи, — закихикал тонко почему‑то дед Афоня и восхищённо пояснил: — Мужика — кривого Емельяна из Сутырок приняла к себе. Дочку выдала замуж и не стерпела одна, значит, блудница.
И дед Афоня опять зашёлся смехом — смеялся он долго, до слез, говоря при этом: — Она, Марья, куда млаже меня, крепка ишо.
«Сколько же ей лет? — вспоминал Матвей. — Деду Афоне уже под сто, а ей…» Но так и не вспомнив, пошёл в дом, а дед Афоня мелко затрусил к Марье. Вернулся он скоро, неся в картузе десятка три яиц, бидончик с молоком.
— Марья‑то в гости звала, — тут же сообщил он. — Но пока отказал, отдохнуть с дороги надоть. Их, звунов, объявится — дай только к вечеру возвернутся с работы.
И дед Афоня угадал. Вечером, услыша о приезде Матвея, пришли одногодки Матвея и постарше пришли, некоторых с трудом уж узнавал Матвей, и тесно, душно стало в маленькой избе, и пришлось стол, табуретки вынести на улицу, кто‑то сбегал за другим столом, принёс стулья и долго, до поздней ночи, шло веселье, разговоры, воспоминания, и все наперебой приглашали, звали в гости к себе. И Матвей был счастлив, хмелен не от водки, хоть и выпил он много, а от разговоров, криков этих, многочисленных горячих объятий. И хотелось ему не уезжать уж больше отсюда, а остаться совсем.
«Уговорю Анну, продадим дом и переедем», — думал он. На другой день он опять гулял, ходил в гости и всюду его встречали с почётом, хорошо, а на третий день не выдержал — попросился на трактор.
— Тянет попробовать, — смущенно пояснил он. — Не отвык ли…
Была середина августа, и уборка подходила к концу, и вовсю уже пылили трактора, сеялки — пахали зябь, сеяли озимые. Дни стояли жаркие, сухие и пряно пахло от зелёных еще конопляников, горячо и густо — от скирд соломы, и Матвей ненасытно впитывал эти запахи и днями пропадал в поле, пахал, сеял вместе со всеми.
— От дорвался, как с голодухи, — сердился дед Афоня. — Ты что — отдыхать аль работать приехал?
Но сердился не всерьёз, скучно ему было оставаться одному в деревне и хотелось побыть с Матвеем, поговорить о разном, походить с ним в гости, в лес за грибами.
— Ну не ворчи, дед, — устало оправдывался Матвей. — Сходим ещё в лес…
В первые дни трудно ему было всё‑таки целый день высиживать на тракторе — отвык он от жары, пыли, которая тучей поднималась от малейшего ветерка и плотно накрывала трактор, его и никуда от неё нельзя было деться. И Матвей пропылился, почернел весь и вечером с удовольствием бежал на речку — речка и впрямь обмелела, была не так глубока, как когда‑то, но вода в ней была прозрачно‑ чистая, дно песчано, и Матвей ложился на живот, громко фыркал, гудел от наслаждения, и похож он был в эту минуту на ребёнка.
Приходил на речку и дед Афоня, сидел, подремывал на берегу, смотрел на Матвея.
— Ишь разошёлся, силов ишо много, — ласково бормотал он.
А Матвей и впрямь будто помолодел, ещё больше окреп от полевого воздуха, встреч с родными местами, дедом Афоней, Марьей, со всеми…
— Дед, иди купаться! — озорно кричал он.
— Э‑э, годы не те, утопну, — отказывался дед Афоня.
Так быстро и незаметно пролетел отпуск и нужно уже было возвращаться в город, и Матвей загрустил, опечалился вновь — не хотелось ему расставаться с родными местами, землей, уезжать из деревни.
Вечером, перед отъездом, опять пришли проститься почти со всей деревни и, выпив, захмелев от водки, попев песни, пообнимаясь с Матвеем, стали звать:
— А вернулся бы ты, Матвей…
— И‑и, дураки‑то, — запротестовала Марья Егорова. — Молодые вон в город отлетають, а он сюды… Пра‑ во, дураки.
— А ты не балабонь, блудница, — перебил дед Афоня. — Не встревай в мужчинские разговоры.
И уж было начала разгораться ссора, за Марью обиделся, вступился кривой Емельян, но тут пришёл председатель, весело поздоровался со всеми, с Матвеем отдельно, загудел басом:
— На‑ка получи свои сто рубликов. Распишись вот только тут.
И он достал из кармана помятую ведомость, и все расступились, освобождая место на столе Матвею, и Матвей засмущался, удивленно спросил:
— Какие деньги? За что?
— Как — за что? — удивился и председатель. — Работал ты на тракторе иль нет?..
— Ну это я так, для своего удовольствия, — всё еще смущаясь, ответил Матвей.
— А это нас не касаемо. Напахал ты наравне с нашим лучшим трактористом Иваном Зайцевым. Вот тебе и удовольствие, а колхозу польза.
— Да ну! — восхитился дед Афоня. — Я завсегда говорил, что у Матвея моя крестьянская хватка. — И требовательно приказал: — Бери, бери, Матвеюшка, не краденые вить.
И Матвей тотчас послал в сельмаг за вином, а остальные хотел отдать деду Афоне, но тот упорно отказывался, не хотел брать.
— Обирала я что ль? Пензию получаю, — отнекивался он.
— Я же жил у тебя, пил, ел, — настаивал Матвей.
Наконец они договорились, разделили деньги пополам.
Прощаясь, председатель всё уговаривал Матвея вернуться в колхоз, намекал, как хорошо ему устроит работу и дом поставят, не дом, а целый дворец, с коридором, террасой — лучше, чем в городе.
— Мастерские какие строим — комбайны, трактора, машины теперь свои, ремонтировать нужно, детали нужны. А ты специалист хороший, вот и будешь мастерскими заведовать. На оклад не обидишься. Переезжай, Матвей Петрович, а?
И Матвей неопределенно обещал, что подумает, поговорит с семьей, на заводе — боялся он, что Анна не захочет, не поедет в деревню, хотя и думал про себя: «Уговорю. Не могу больше в городе. А как уговорю — и приеду. А сейчас что зря болтать…»
— Поговори, Матвей Петрович, поговори, — просил председатель. — А с заводом я сам улажу.
Ему очень хотелось, чтобы вернулся Матвей, молодые неохотно шли работать трактористами, всё больше смотрели на город, норовили уехать туда, а хорошие кадры позарез были нужны колхозу.
Но Анна, как и предполагал Матвей, наотрез отказалась переезжать.
— Ты что — ополоумел? Бросить дом, работу… И думать не смей, — кричала она громко, долго.
Матвей пробовал сказать, что и дом там колхоз построит хороший, и работа будет не хуже, и что не может он уже в городе, на заводе, нужна ему земля, её запахи. Но Анна и слышать не хотела, не понимала его тяги к земле.
— Вон и нюхай её сколько хочешь на огороде, возись с ней, если надо.
— Но, Анна, — возражал Матвей. — Я не об этой земле говорю, а о настоящей…
— Что ты заладил всё одно и то же, — обрезала, не давала до конца договорить Анна.
— Выкинул бы эту блажь из дурной головы, о Витюшке лучше подумай.
— А что о нём думать, — начинал сердиться Матвей. — Не маленький — техникум кончает. Сам о себе подумает.
Не понимал и он Анну. Выросла, как и он, тоже в деревне, отец с матерью до сих пор живут там у старшего сына, приезжают в гости, Анна иногда ездит к ним, но ездит неохотно, в три года раз, а то и реже — забыла она деревню, быстро отвыкла от неё. Когда‑то стройная, чернокосая, в последние годы она как‑то раздалась, погрузнела. Давно уж и отрезала косу, завивается колечками и красится до сих пор, хоть и недавно стукнуло ей сорок пять лет. Но и такую любит её Матвей по‑прежнему. Любит и Анна его, но любит как‑то эгоистически, поубавилась, пообтерлась её любовь от времени. Раньше она была готова идти за Матвеем на край света — пожелай, захоти он этого.
— И не уговаривай, не поеду, — устала она под конец их ссоры.
И Матвей затаился, притих, не покидая мысли, что когда‑нибудь он уговорит, убедит всё‑таки Анну переехать в его родную деревню. «Капля и камень долбит», — подумал, усмехаясь, он тогда.
«Может и камень долбит, но только не Анну», — Матвей вспомнил, как он совсем недавно встретил председателя колхоза на областном совещании передовиков и тот обрадовался, спросил:
— Не надумал ещё, Матвей Петрович? Ждём, ждём…
— Да вот супруга не отпускает, Павел Семёнович, — грустно ответил Матвей. — А куда же иголке без нитки.
— А ты потяни покрепче, может и вытянешь.
— Пробовал, не получается, — огорченно развел Матвей руками.
— Ну смотри. Надумаешь — всегда рады встретить, — заверил на прощание председатель.
И Матвей снова попробовал завести разговор о деревне, о переезде туда, и снова Анна была непреклонна.
— Выкинешь ты эту блажь из головы аль нет? — зло заорала, позабывшись, обмолвилась она по‑деревенски, хотя всегда старалась говорить на городской манер.
Пригрозил было Матвей:
— Уеду один.
— Ну и уезжай, скатертью дорога, — не испугалась Анна. Знала она, что не мог он без них никуда уехать.
И сейчас, возвращаясь, пора уж было на работу, надышавшись свежим воздухом, кленовыми почками, оттаявшей и оттого ещё более пахучей землёй, он думал: «Что же делать? Земля так и тянет к себе, и не может он перебороть эту тягу… А может, и права Анна, блажь на себя напустил. Восемнадцать лет, а с войной и больше, прошло, а он все никак не истребит в себе крестьянский дух».
Где‑то далеко, но отчетливо затикало радио, и диктор четко, будто рядом, произнес: «Семь часов — московское время…» Матвей вздрогнул, посмотрел на часы и заторопился, так и не додумав своих беспокойных и тревожных дум.
III
Анна уже встала, встретила его насмешливо.
— Опять, блажной, ходил в поле. На работу вон опоздаешь…
Матвей ничего не ответил, молча засобирался, выпив на ходу чаю.
— Яйца и колбаса на тумбочке, не забудь взять, — напомнила она.
Матвей не любил ходить в столовую, стоять в очереди и обед брал из дому.
На автобусной остановке было много народу, и автобусы были переполнены, забиты до отказа — люди висели на подножках, и давка стояла страшная. И Матвей пропустил сначала один, потом другой автобус, всё ожидая посвободнее. И впервые за много лет опоздал на работу, и в цехе заметил, как удивлённо покашивают глазами провожают взглядами его — такого не случалось ещё с Матвеем Козловым. Обычно он рано, раньше всех приходил на работу, но Матвей будто и не замечал этих взглядов, был он сегодня хмур и как‑то зол, но хмур не оттого, что опоздал на работу, а от какого‑то внутреннего беспокойства, беспричинной тоски, которая больно давила на сердце, томила всего.
— Матвей Петрович! — окликнул его мастер.
«Сейчас замечание сделает, что опоздал», — вяло подумал Матвей, а мастер сказал:
— Парторг тебя вызывает.
— Скажи — в обед зайду, — раздраженно ответил Матвей.
Ему никуда не хотелось идти, разговаривать, а хотелось побыстрей стать за верстак и работать, работать, позабыв на время свои думы, все.
— Никишин просил сейчас зайти.
— Не знаешь — зачем так спешно? — спросил Матвей.
Мастер пожал плечами, и Матвей, так и не приступив к работе, пошёл в контору.
— А‑а, Матвей Петрович, заходи, — ласково встречает его парторг, усаживает на стул. — Как живешь, Матвей Петрович?
— Ничего, хорошо живу, — отвечает Матвей, а сам думает: «Чего это он о жизни заговорил, будто не знает…»
— Хорошо, значит, — повторяет парторг. — Да‑а, рабочий класс неплохо живёт, — он потирает руки, задумчиво смотрит на Матвея. — А вот в деревне ещё не совсем хорошо…
— Смотря где, — возражает Матвей. — В свою ездил в прошлом году — хорошо живут.
— Это ты правильно заметил, — подхватывает, оживляясь, парторг, а Матвей опять не понимает, почему это парторг заговорил о деревне, о колхозной жизни.
— Ты газеты регулярно читаешь? — внезапно спрашивает парторг.
— Читаю, а что? — спрашивает и Матвей.
— А то, что партия сейчас уделяет деревне особое, большое внимание, можно сказать, огромное внимание, — быстро, будто читает лекцию, говорит парторг.
— Это я и сам знаю, — усмехается Матвей. — Ты мне политграмоту не объясняй. Скажи, зачем вызвал?
— А вот и за этим вызвал. В райкоме сказали, чтобы мы посмотрели, кто раньше работал в деревне, а теперь на заводе и, значит, отобрали лучших, самых сознательных, — парторг на минуту останавливается, смотрит на Матвея, он боится, что Матвей сейчас встанет, не будет слушать, у него семья, большой стаж работы, и они не могут, не имеют права направить на работу в деревню. Но посылать кого‑то нужно, и кандидатура Матвея самая подходящая: и коммунист, и дисциплинирован он, и слесарь хороший, один из лучших в цехе, и в селе работал трактористом, и там как раз нужны специалисты.
— Ты, Матвей Петрович, пойми правильно, — мнётся парторг. — Мы тебя очень ценим и уважаем, но…
— Значит, в деревню хотите послать? — перебивает, спрашивает Матвей.
— Не мы, а партия, — осторожно поправляет парторг и добавляет: — Конечно, при твоём согласии.
И Матвей на глазах веселеет, оживляется, и парторг удивлённо смотрит на него, думал он, что придётся долго и трудно уговаривать и даже пригрозить партийным взысканием… Да‑а, плохо он еще знает своих людей.
— А в свою деревню можно? — спрашивает Матвей.
— Конечно, если там требуются специалисты, — отвечает парторг.
Матвей ещё больше веселеет, воображая, как обрадуются председатель, дед Афоня его приезду, и возбужденно говорит:
— Председатель когда ещё звал. Обещал зав. мастерскими поставить.
— Договорились, значит, — радуется и парторг. — Документы сегодня можешь оформлять. Указание дано.
И тут Матвей вспоминает Анну, и лицо его мрачнеет, и он просит парторга:
— Ты бы, Палыч, с моей Анной поговорил. Так мол и так, партийное поручение, нельзя отказываться. А то она ведь скандал поднимет, может и не поехать.
Парторг обещает поговорить с Анной, поехать вместе с Матвеем к нему домой.
А оформив документы, получив направление в райкоме, они едут на заводской машине к Матвею, и уже перед домом Матвей просит опять:
— Ты, Палыч, понастойчивей с Анной‑то. Ежели надо — повысь голос.
— Не беспокойся, уладим, — бодро обещает парторг.
Но уладить оказывается трудно. Анна орёт и на Матвея, и на парторга, грозится пойти к директору, в райком… И на следующий день, отпросившись с работы, и впрямь идёт на завод, в райком, но возвращается злая, вся в слезах и ругается ещё больше.
— Бюрократов развелось. Деревня — важный участок, — нарочно гнусит, передразнивает она кого‑то. — Вот и ехали бы сами в эту деревню.
— Зря это ты, Анна, — пробует вмешаться, успокоить ее Матвей.
— А ты бы помолчал, блажной, — яростно накидывается она на Матвея. — Сам небось напросился, дурак. Ну и поезжай, а мы с Витюшей здесь останемся.
— Как же так, Анна?..
— А так. Поживёшь один, надоест — приедешь.
А на другой день она помогает собирать вещи, укладывать чемоданы и сердито приказывает:
— Ты там получше у кого остановись, чтоб и постирать могли и накормить вовремя…
И втроём идут на автовокзал.
— Дом ведь обещали построить, — говорит по дороге Матвей. — Обживать надо бы вместе, Анна…
— Посмотрим, — неопределенно отвечает она.
На автовокзале уже стоит автобус, ждёт отправления, и они быстро, поспешно обнимаются, и уже из автобуса Матвей видит, как плачет Анна, помахивает ему рукой, и он машет ей, сыну в ответ, а глаза его туманятся, наполняются слезами, и он растроганно думает: «Хорошие они у меня. И Витюшка уж вырос, скоро на работу пойдёт. А Анна посердится, посердится и приедет. Построят вот дом и приедет…»
с. Голунь. 1968 г.