Русский горизонт – особого свойства: тут двойная тайна, ибо в недрах многих поэтических ощущений русскости мерцает возвышенно-волшебный Китеж, всё никак не всплывающий из-под метафизических вод; а резкая черта горизонта словно распахивается небесной альтернативой чудо-града.
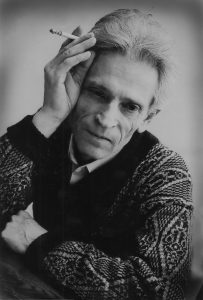 Какой простор и звон в ушах,
Какой простор и звон в ушах,
когда тропинка полевая
тебя выводит на большак,
все горизонты открывая!
Ты набираешь высоту
и видишь с птичьего полёта
всю наготу и всю тщету
земных страстей, людского пота.
Стих сух: но строчки вспыхивают хворостом, чтобы дать необыкновенное, устремляющееся в запредельность пламя: разыграться темами отдельных огненных волокон.
Стих Николая Перовского выразителен предельно: никакого словесного излишества не допускал поэт, ювелирно обрабатывая материал жизни, собственных фантазий и грёз, опыта, который удалось наработать, проходя разнообразными тропинками, дорогами, их отслоениями…
Жизнь не отбрасывала тени,
пока душа росла в зенит,
но ветви сердца облетели,
а старый ствол ещё звенит.
Ещё ни солнце и ни вьюга
его не могут побороть,
лишь родовых колец кольчуга
стесняет дух и сушит плоть.
У него была большая душа – у Николая Перовского: душа, готовая ко взлёту и познавшая парения, пока находилась в теле; душа поэта, чувствующего гармонию и классическую красоту мира, но стремящаяся дальше, выше…
Он предлагал свои формы метафизического языка: связанные с природными понятиями, как связано ощущение ствола собственной внутренней сути с облетающими ветвями сердца – здесь нечто от философии русского космизма, от огненного языка Андрея Платонова, от мощной сказовой фактуры стилистики Леонида Леонова.
Плоть уходит: иссушаемая годами, она становится не нужной: пока стихи разворачивают в пространство феномен своего бытия.
Острый взор прозрения отразится в поэтических зеркалах Перовского, сильно разгоняя кольцами ощущения, связанные с ним:
Бывает острое прозренье,
как взрыв в мозгу, что ты — живой,
что ненависть, любовь, горенье
в тебе, с тобой и над тобой.
Ты только вскрикни, хлопни дверью
или засмейся — просто, вдруг –
и тут же ветер и деревья
тебя затянут в общий круг.
Мощь общего круга – оттуда же, от темы всеобщности, от необычности полётов русского космоса духа, от переливов прозрений Циолковского, от поэтических озарений Чижевского…
Перовский, разумеется, самостоятелен в стихе, но ассоциации, вызываемые его поэзией, говорят о насыщенности оной, о богатстве палитры, и пространном пространстве духа, освоенном поэтом.
Как смешано многое:
В тот милый круг, где всё живое,
где наслаждение и боль,
где правят общею судьбою
горенье, ненависть, любовь.
Сколь оправдано такое смешение знают все, достаточно ходившие по дорогам бытия, ибо волокна горения и боли вполне могут переплетаться, как – увы! – и ленты любви оборачиваться обожжёнными трагедией лентами ненависти.
Мастерство завораживает – в любом деле. Отсюда:
Шарманщик, трубочист или тряпишник,
точильщик или чистильщик сапог,
придите к нам из тех времён давнишних,
когда любой из вас был полубог.
Я помню вас, корявых, груболицых,
с весёлой сумасшедшинкой в глазах.
В фуфайках и потёртых рукавицах,
в передниках, в халатах, в картузах.
Есть нечто брейгелевское в тугом описании лиц и одежд, есть и гаммы ассоциаций, звучащие за названными профессиями…
Бредущий по дворам с шарманкой старик…
Чумазый, но по-своему чрезвычайно изящный трубочист…
Перовский использует интересные метафоры, они опаляют сознание точной находкой, западающей в память, и суммы их, прослаивающие стихи, играют разными цветами человеческой жизни:
В истоке детства, в солнечной излуке –
телеги и точильные станки,
когда тебе, как в сказке, прямо в руки
ныряют рыболовные крючки!
Стих туг, как виноградная гроздь.
Порой – он брызжет соком, как жареное мясо.
Мясо жизни близко поэту – в проявлениях мастерства, связанного с ремеслом, в самых различных ракурсах яви, попадающих в поэтические окуляры.
А чистильщик! А уличный сапожник!
Ты приглядись к нему из-за плеча:
какой уж там ремесленник – художник! –
с повадкой и сноровкой циркача!
Они всегда в порядке и в ударе,
они и есть твой двор, твоя страна, –
о, запах кожи, ржавчины и гари!
О, дух махорки, пота и вина!
И тут уже сам смак жизни ощущается истово, весело-задорно-яростно…
Ничего, что профессии – не из высот, громоздящихся к… условному трону; ничего, раз они дают столько артистизма, и так окрашены духом бытия.
…словесная роскошь иных русских названий, их гармония и медоточивость обыгрываются изящно поэтом:
Лебяжье. Лебединка. Лебедянь…
Издревле наши реки и озёра,
приветливо открытые для взора,
с разбуженных сердец взымали дань.
Красота замедленного чтения: словно вглядываешься в бесконечную воду земли, словно медленно вслушиваешься в тайны названий, связанных с источниками, с корневыми основами бытования на земле.
Люди и вода: они так союзны – как правда и откровение, как поэзия и озарения.
И много их, световых, вспыхивает в произведениях Перовского, играя оттенками познанного, переливаясь гармонией духа.
Ирония порой перевивала волокнисто-колюче стихи Перовского, и то, что обращалась она, задействуя порочные стороны бытования, к поэту Икс, дающего общую картину, было логично:
Поэт, раскрученный вполне,
полвека бывший на волне,
гордыни вдоволь накопил
и вдруг утратил прежний пыл…
…Давно не слышал соловья,
не видел хрусткого жнивья,
не замирал от тишины,
не попадал в тиски луны.
Где друга верного лицо,
любимой женщины крыльцо,
где гроздь сирени, луч звезды.
Отяжелевшие сады…
…Очистил зерна от плевел —
ослеп, оглох, осиротел…
Тут – вариант иронии, переходящей в сатиру…
…никто никогда не ответит, почему в нагрузку к литературному дарованию даются тщеславие, честолюбие, гордыня, трактуемые грехами: и мало кто из поэтов способен победить их, отрешиться от оных…
Вспоминается Хлебников – этот глобальный дервиш русской поэзии…
Или Тютчев – высокий аристократ её.
Ни тот, ни другой не обладали, кажется, негативом – только – огромным даром, в случае Тютчева – гением.
…душа всегда была – основой, альфой поэзии Перовского: и свою он расшифровывал стихами, отсюда и рождалось:
Душу в стих обратив,
замираешь от сходства:
вот он, вечный мотив
на исходе сиротства…
Есть миги счастья: в том числе, связанные с творчеством, с сочинением стихов; но сплошной, тотальной лентой оно едва ли кому даётся…
Жизнь, узнанная с разных сторон, была к Перовскому щедра и своей изнанкой (впрочем, вероятнее всего, опыт выбирает человека): поэту довелось и бродяжить, узнавая шаровую ширь русского пространства и разноликие нравы людей, встречавшихся на пути; довелось Перовскому и побичевать на гнутых, таких красивых, но порою столь неласковых к носителю поэтического дара московских улицах; соприкоснуться с… почти горьковским дном, познакомившись пред тем и с богемой…
Но дно – всегда тяжко: поэту, опалённому своеобразным огнём отверженности, пришлось возвращаться в родную провинцию, где мера вещей иная, воздух не столь пропах амбициями, не настолько зависит от денег…
Неласковость жизни не служит основанием для её отвержения: ибо, чем бы ты ни жил – всё равно это – жизнь, и в ней достаточно всего, что стоит воспевать.
В частности – и такое горячее и горящее, юношеское ощущение:
…отроком грешным,
сговорясь с камышом,
подсмотрел, как потешно
ты прошла нагишом.
Я забыл твоё имя,
но шуршит между
строк под ступнями
твоими раскалённый песок.
…многим знакомо, со многими бывало: но великое право поэта перевести голый физиологизм момента в чудесную высоту поэтических строк.
Литература сливается с жизнью, сплетается определёнными волоконцами, и песок, прогретый до условных «корней» своих великолепием вечного византийски-российского солнца, перетекающий на страницу, волшебно шуршащий между строк – горит драгоценными карбункулами правды и подлинности.
…Он был из сирот – Николай Перовский, попавший в четырёхлетнем возрасте в специальный детский дом, куда распределялись дети репрессированных «врагов народа».
Сиротство такого рода тяжело вдвойне: то, что поэзия Перовского пронизана солнцем и радостью жизни, говорит о мере стойкости поэта, и…человека…
Он узнал и беспризорное детское бродяжничество, и учёбу (незавершённую) в Московском горном институте, и работу на шахте… на целине…
Жизнь тёрла его в шероховатых ладонях…
Нужно ли столько опыта?
Но – повторимся – оный, вероятно, не выбирают, и те силы, что определяют нашу судьбу, сами решают, что кому положено.
В 60-е годы жизнь вроде бы начинает улыбаться поэту: выходят книги, о стихах пишет Сергей Наровчатов, Ярослав Смеляков рекомендует их в «Комсомольскую правду», высоко оценивает поэзию Перовского и Николай Рубцов.
Более двадцати книг выходит при жизни.
…звёзды, иногда нежно мигая, возникают над нами: о! эти бесконечные шатры звёздных полей – с их вечною тайной, с ощущением собственного бессмертия!
Сутью поэтического дела Перовского мыслится именно попытка докопаться до самых глубоких корней, и – возможность налюбоваться жизнью, столь кратковременной, в какие бы перспективы не уводили драгоценные нити стихов:
Дай наглядеться, дай мне наслушаться,
дай докопаться до звёздных корней…
…степь говорила с ним.
Она говорила – могуче и таинственно, как сфинкс, давая ответ столь же двойственный, сколь и оригинальный:
Я сказал: «Научи меня, степь,
Дай мне воли и дай мне покоя,
Я годами сидел, я ослеп
В безнадёжной борьбе со строкою».
И услышал я странный ответ:
«Все дороги ковыльной равнины
Упираются в горный хребет,
В океан обрываются синий…»
Но не в смерть упираются они – дороги: в пространства столь значительные, что и смерть, вечно пугая, тем не менее, покажется ничтожной.
У Перовского, как будто свой воздух – необыкновенной синевы, ласкового натяжения, особого пространства.
У него же – своя степь, свои махины гор, и свой океан: великолепно колышущийся, пронизанный мириадами огней океан духа…
Служа ему, поэт разбил свой словесный сад, наполненный чудесными растениями, и создал свою архитектуру (в мире поэзии многое сочетаемо) – уходящую вверх, по световой вертикали, куда приглашает поэт тех, кто способен ещё слышать поэтическое слово.





