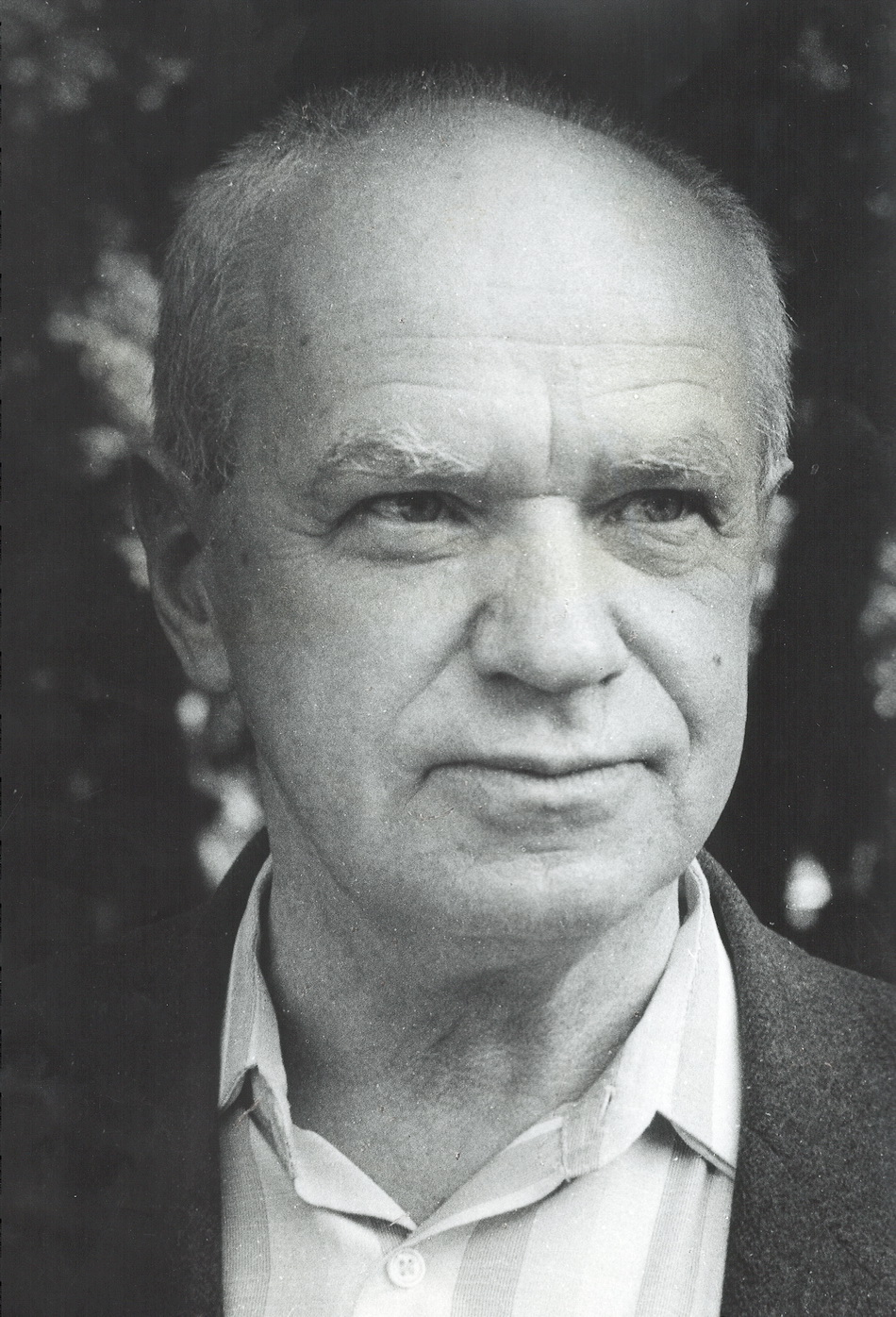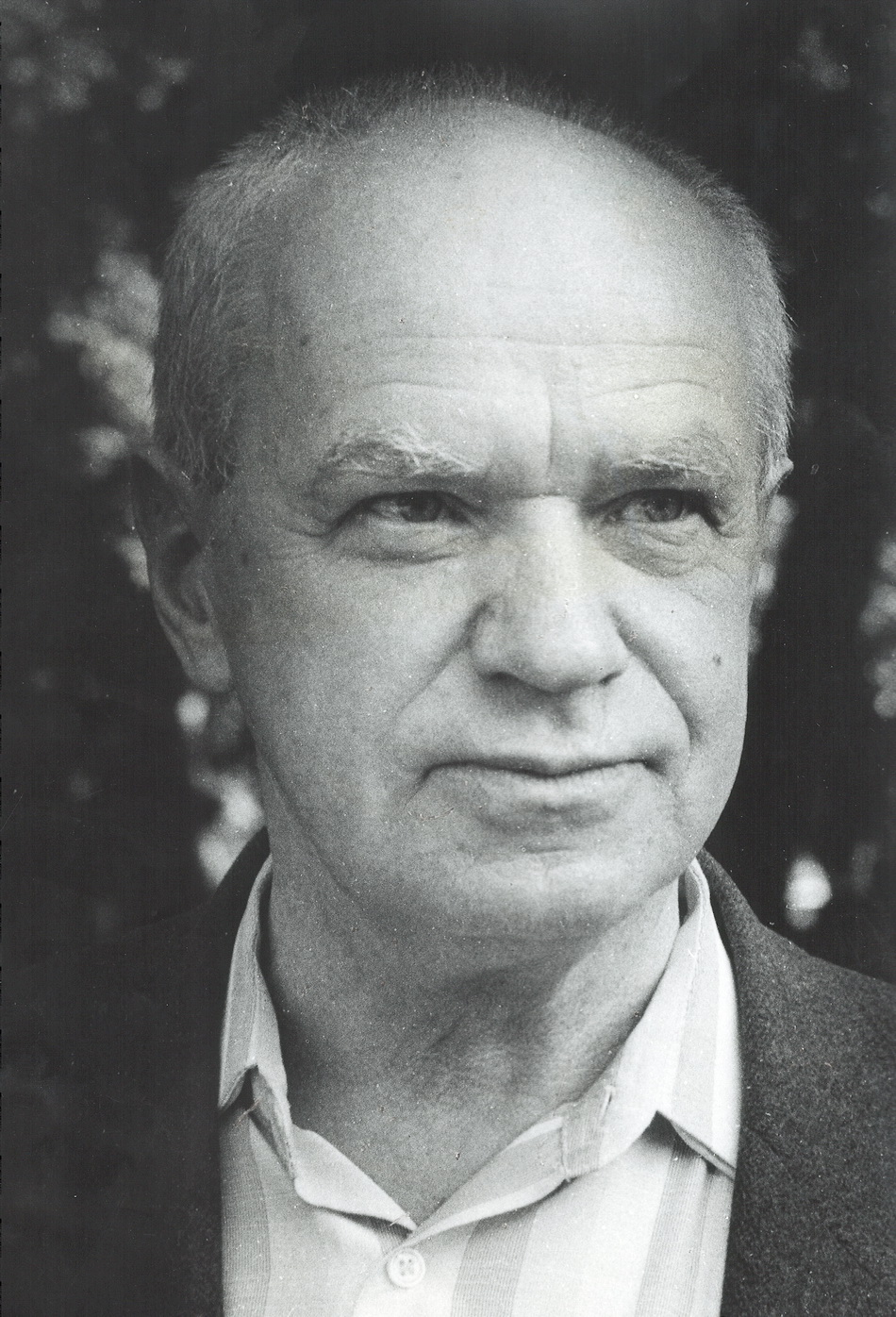ПЕТРОВИЧ
Чёрная и мягкая, как сажа, августовская темнота придавила деревню, будто оглушила и ослепила её — не было ни звука, ни огонька кругом. Не доходил сюда и слабый полевой ветерок — деревня стояла в низине, за холмами, и воздух был от этого тяжеловлажен, душен. И только в доме кузнеца Егора Петровича Сухорукова светились окна, но светились слабо, свет не проникал на улицу — застревал где-то в кустах сирени, в густом вишеннике.
В доме не спали. Вот уже шестой день Петрович тяжело болел, шестой день не вставал с печи, не спал по ночам, стонал. Внутри что-то жгло, мутилось в голове, ослабло всё его мощное тело, стало лёгким. Вызывали доктора из района. Доктор Сизов приехал сразу. Был он уже стар, опытен. «Не прощелыга какой-нибудь», — с удовольствием отметил Петрович.
Сизов долго щупал, мял бока, грудь Егора, постукивал по широкой спине, но болезни определённой не признавал, выписал какие-то порошки.
— Старость не младость, — неясно сказал доктор на прощание и, не выдержав, восхитился: — А сложение у вас, батенька, богатырское.
— Чай, кузнецом работаю, — слабо ответил Петрович. Ещё неделю назад был он крепок, силен, на спор выжимал десять раз двухпудовую гирю, хоть и шёл уже ему седьмой десяток лет. Ходил он ещё твердо, не горбясь.
— Ну и Петрович! — восхищались приезжавшие из соседних деревень мужики. — Тебе ишо молодуху, совладел бы, должно.
Петрович хмурился, глупых шуток он не любил:
— Давай, давай, не задерживай, пустоболт. Анекдоты будешь рассказывать вечером своей бабе.
Был он неразговорчив, большое тёмно-красное от огня и загара лицо постоянно хмуро, косматые брови насуплены. Хмур, строг он стал после войны.
В молодости же был весел, много шутил, любил рассказывать про городскую жизнь, где пробыл недолго, работал слесарем на заводе, но не выдержал, ушёл — потянуло в родные края, к своим, — любил повторять:
— Народ какой-то тонкий, прогонистый пошёл.
В деревне Петрович определился в кузницу и с тех пор работал кузнецом. Работал хорошо, слава его разнеслась далеко вокруг, и к нему часто приезжали из дальних деревень, хоть и были там свои кузнецы. Любили его не только за хорошую работу, но и за честность — денег, водки, как другие, он никогда не брал ни с кого, постоянно говорил одно и то же:
— А трудодни мне за что начисляют?
И гневался, ругался страшно, когда кто-нибудь из дальних — свои хорошо знали Петровича — пытался отблагодарить за труды.
Жил он долго в тесной старой избе, но жил как-то легко и только недавно, года три назад, построил просторный кирпичный дом, а старый, позеленевший от времени, не сломал, оставил рядом.
— Пусть стоит, напоминает прежние времена, — весело решил он. В последние годы Петрович опять оживился, стал радостно-возбуждён, начал громко смеяться, шу¬тить — стала забываться смерть сына, погибшего перед самой Победой.
— А ты, Петрович, молодеешь. Аль знаешь какой секрет? — шутили бабы.
— Знаю, знаю, — весело отвечал Петрович.
Заболел он как-то внезапно, сразу — куда девалась, исчезла его богатырская сила.
— Всё, мать, износился совсем. Готовь смертное, — твёрдо, как будто о давно решённом, сказал он жене.
— Что ты, Господь с тобой, — испугалась Пелагея, — буровишь лишнее.
— Гроб закажи Фролу Сниткову. Он делает их красиво, — еще твёрже, спокойно приказал Петрович. — И поминки устрой получше, пригласи всех.
— Хорошо, хорошо, родимый, — коротко отвечала Пелагея, а сама не верила ни единому слову Егора.
Не верит, не может представить она и сейчас, что Егор может умереть, больше не встанет. Шестой день она мало спит, неотступно следит за Егором, — любит она его больше себя. «Как же так, — думает она сонно, сидя за столом, чутко прислушиваясь к стонам Егора. — Вот и Настюшке пришло время рожать. Внука понянчим. Егорушка вона как мечтал о внуках», — Пелагея вскидывается, смотрит в соседнюю комнату.
Там тоже слабо горит лампа, тускло освещая комнату, широкую кровать, молодую фельдшерицу, сидящую возле Насти. Окна в комнате открыты, и фельдшерице страшно смотреть в густую вязкую темноту, видеть какие-то далёкие, внезапно возникающие и так же внезапно пропадающие фосфоресцирующие вспышки.
«Должно быть, гроза», — догадывается она. Жутко ей слышать стоны Насти, видеть её муки, — роды она принимает впервые, — жутко быть в одном доме с Петровичем, который вот-вот умрёт. В смерти его она почему-то твёрдо уверена.
Проходя днем к Насте, она мельком глянула на Петровича и поразилась: как жёлто-бледно, сухо стало его крепкое лицо, ввалились щеки, потускнели глаза, как поредели волосы на голове. Поредела и его белая, как тополиный пух, борода.
«Умрёт», — сразу решила она, и эта мысль не даёт ей покоя, вызывает неприятный озноб. Ей хочется, чтобы поскорей наступило утро, чтобы родила Настя, хочется уйти из этого дома.
Не спит, чутко прислушивается к стонам невестки и Петрович, на миг забывая о себе, о своих болях. Ждёт с нетерпением и он, когда родит Настя, больше всего на свете хочется увидеть ему сейчас внука или внучку. «Всё равно кого, только бы успеть посмотреть, — шепчет он. — И помирать тогда легче будет».
— Мать, — тихо зовет он.
— Что, родимый? — будто и не дремала, отвечает Пе¬лагея.
— Подай карточки, — просит он.
— Какие карточки? — спрашивает Пелагея.
— Какие, какие, — сердится Петрович. — Будто не знаешь.
Пелагея приносит большие увеличенные фотографии сыновей, и Петрович, приподнимаясь, дрожащими руками подносит их близко к лицу и смотрит на лица сыновей. Старший, Иван, весел, широкоскул, броваст — похож он как две капли воды на Петровича. Младший, Василий, серьёзен, курнос — весь в мать, — служит сейчас в армии, послали телеграмму, может, приедет.
«Не успеет», — вздыхает Петрович и откладывает фотокарточку младшего в сторону, старшего же держит перед собой. Все надежды, все помыслы были связаны с ним. «Вот выучится на агронома и вернётся домой в деревню, — мечтал Петрович. — Женится, а я внуков буду нянчить».
«Проклятая война», — Петрович скрипит зубами, слабо падает на подушки. Внутри опять жжёт, зыбко, стеклянно рябит в глазах, тошнит, вот-вот оборвётся сердце.
— Мать! — кричит он. — Дай водицы.
Пелагея торопливо шарит по полке, ищет кружку, порошки, а он капризно торопит:
— Что ты там возишься…
Кажется ему, что он проваливается в какую-то яму, из которой уж не выбраться вовеки. «А как же внук?» — пугается он и хочет услышать, что делается в соседней комнате за стеной, но в голове шумит, стоит какой-то звон, и ничего не слышно, ничего не разобрать.
Пелагея наконец наливает воды, берёт порошки и подаёт Егору. Он торопливо выпивает, и ему легчает. Опять он начинает думать о сыновьях, о внуках, потом мысли его перескакивают на работу.
Думает он о кузнице, о своём подручном Николае, о том, что лето выдалось сухменное и часто ему придётся менять лемеха, чинить повозки, ковать лошадей… «Ничего, выдержит», — решает Петрович. Он всегда был доволен Николаем. Петрович, усмехаясь, вспоминает, как вчера приходила целая делегация мужиков по главе с Николаем. Робко переступив порог, они потоптались у печки, пошушукались с Пелагеей, сунув ей какие-то свёртки.
— Ну, как, Петрович, скоро поднимешься? Без тебя нам никак нельзя, — громко, боясь, что не услышит, сказал Аникей Пронников.
— Не кричи, — остановил Петрович. — Чай, ишо не глухой. Вот у вас теперь кузнец, — показал он на Николая. — Не хуже меня.
— Это ты брось, Петрович. Это ты зря, — невнятно выговорил, покраснел Николай.
— Ишо кишка тонка до тебя, — запротестовали мужи¬ки. — До тебя ишо ему далеко…
— А я, што ль, сразу родился таким? — рассердился Петрович. — Лучше Николая кузнеца вам не найти.
— Оно, конешно, так, — согласились мужики. — Но лучше поскорей выздоравливай ты, Петрович.
— Может, профессора какого из города вызвать? — предложил Аникей.
— А что, дядя Аникей, обязательно нужно, — горячо поддержал Николай.
Мужики соглашаются, что Петровича непременно должен осмотреть профессор, и уходят об этом просить председателя колхоза.
Вот не ожидал такого. Слабая улыбка трогает лицо Петровича. Он забывается на минуту, глаза его закрываются. За стеной слышится стон невестки, и Петрович вздрагивает, чутко прислушивается, и мысли его целиком отдаются невестке, дому, Пелагее. Зыбко, неясно представляет, как он идёт по улице, а на руках у него внук, и встречные улыбаются, радостно говорят:
«Дождался, Петрович».
«Дождался, дождался», — счастливо отвечает он.
А внук уже большой и помогает ему разжигать горн, помогает калить, а потом приходит старший сын Иван и, улыбаясь, спрашивает: «Не ждал, отец, а я вот вер¬нулся. Моих сыновей тоже будешь нянчить». Но всё смутней, неясней видит Петрович Ивана, внука, всё сильнее становится боль — действие лекарства проходит. В доме, как и на улице, душно, пахнет чем-то неприятным, расплывчато-пряным. Лампа почти потухла, и в комнате сумрачно, тесно, страшно. Петрович хочет крикнуть, чтобы Пелагея вывернула фитиль, но что-то тяжело давит грудь, и крика не получается.
«Конец, — слабо, как-то спокойно решает он. — Так и не увидел внука…»
За стеной о чем-то переговариваются Пелагея и фельдшерица, голоса их тихи, глухи, но оживлённы, и Петрович, минуту назад похоронивший себя, беспомощный, оживает, тяжело приподнимается. «Неужели?» — радостно думает он. Пелагея скоро возвращается — фельдшерица просила мокрое полотенце для Насти.
— Нет еще, — отвечает она на молчаливый вопрос Егора и ласково, устало говорит: — Спи, спи, родимый.
— Тяжело чтой-то, мать, — жалуется Петрович. — Выверни поболе фитиль, а то темно.
Пелагея вяло исполняет просьбу, — спать она хочет неимоверно, худое и без того лицо её осунулось, потемнело. Иссушило же её, состарило быстро горе по старшему сыну, постоянный страх в войну за Петровича — не убили бы. И вся жизнь её была в вечных хлопотах, хоть и хлопоты эти ей были приятны, радостны.
— Чай, не за чужими ухаживаю, за своими, — отвечала она, когда Петрович или сын говорили, чтобы отдохнула она, съездила бы куда.
Редко и плакала она, горе переносила молча, замкнуто, как и Петрович, ожила, повеселела она только в последние годы — с приходом в дом Насти. Как и Петровичу, страстно ей хотелось внуков, повозиться, понянчиться с ними. И в первый год она всё шепталась, шушукалась с Петровичем, с надеждой поглядывала на Настю, но та всё так же была стройна, тонка, и Петрович хмурился, мрачнел, иногда ругался с Василием:
— Ты смотри у меня, чтоб род Сухоруковых не переводился.
— Успеем, папаня, — ухмылялся Василий. — Нарожаем целую кучу.
— Ты-то, может, и успеешь, а нам с матерью поскорей хочется.
«Надо же такому приключиться, — горестно, дремотно думает сейчас Пелагея. — Заболел-то совсем не вовремя». Свою жизнь и смерть свою она крепко связала с ним и давно уж про себя решила, что и умрут они вместе, в одночасье: «Куда иголка, туда и нитка…»
— Мать, дай порошки, нет мочи больше, — просит Петрович.
— На, выпей, родимый. Скоро уж утро. Утром полегчает, — успокаивает она.
«Скоро и рассвет»,— думает и фельдшерица.
Ночь на глазах сереет, становится жиже, отступает от окон — видны уж кусты сирени. Свежеет.
А Петрович, выпив лекарство, опять забывается, ненадолго засыпает. Сны ему снятся неотчётливые, непонятные. Просыпается он оттого, что кажется ему: кто-то зовёт его. За стеной опять разговаривают, но говорят уже громко, сердито-оживлённо. «Что такое?» — не понимает, холодеет он. И вдруг тишину разрывает пронзительно-тонкий, захлёбывающийся плач.
«Внучёк!». Петрович легко, не чувствуя слабости, боли, поднимается, хочет слезть с печки, но что-то подламывается резко внутри, отрывается сердце, и он плавно летит в невидимую пропасть и не слышит уже, как к одному голосу присоединяется скоро и второй — Настя родила двойню. И долго, горласто орут пока ещё безымянные внуки Егора, бестолково-радостно оживление за стеной…