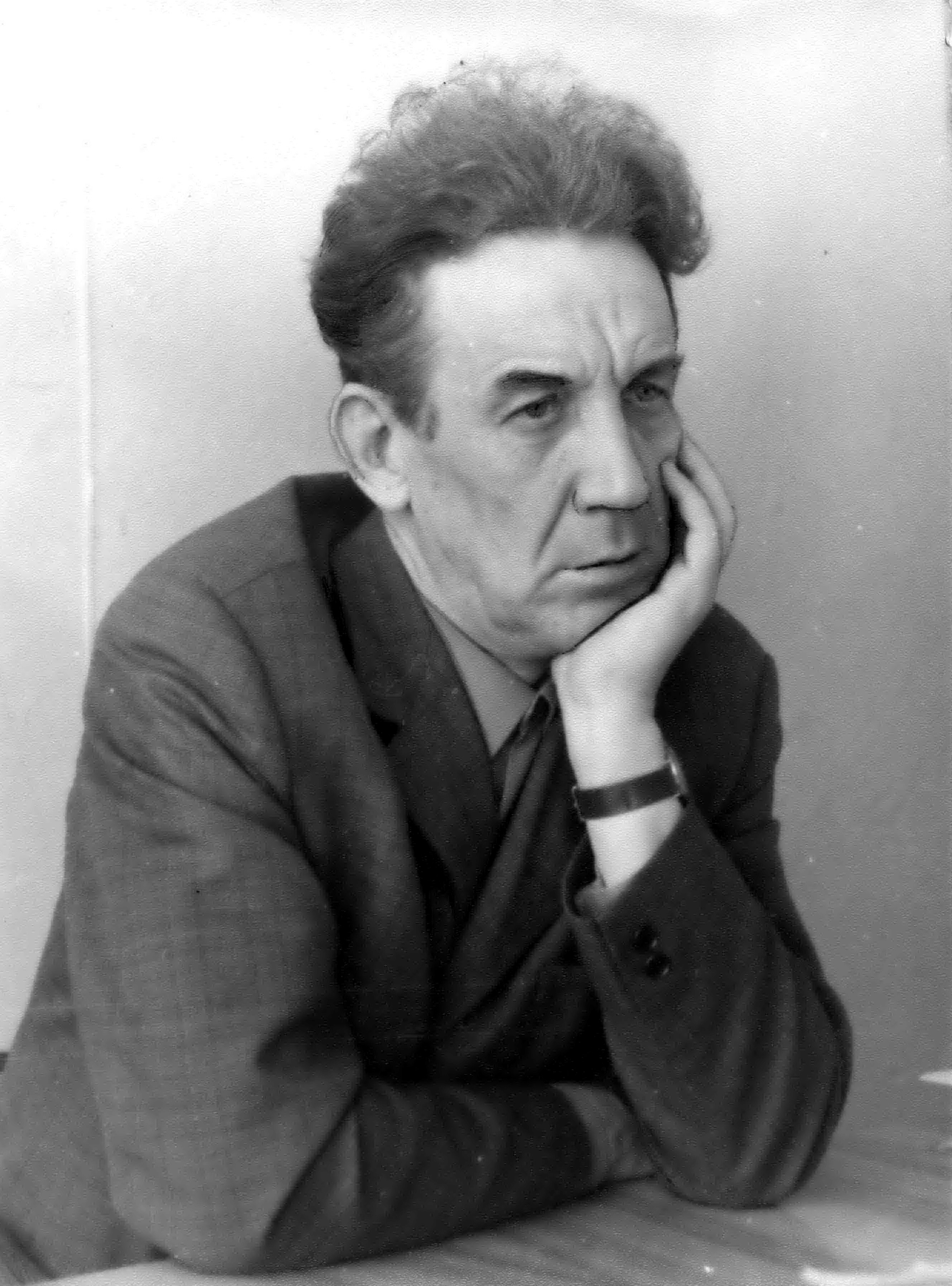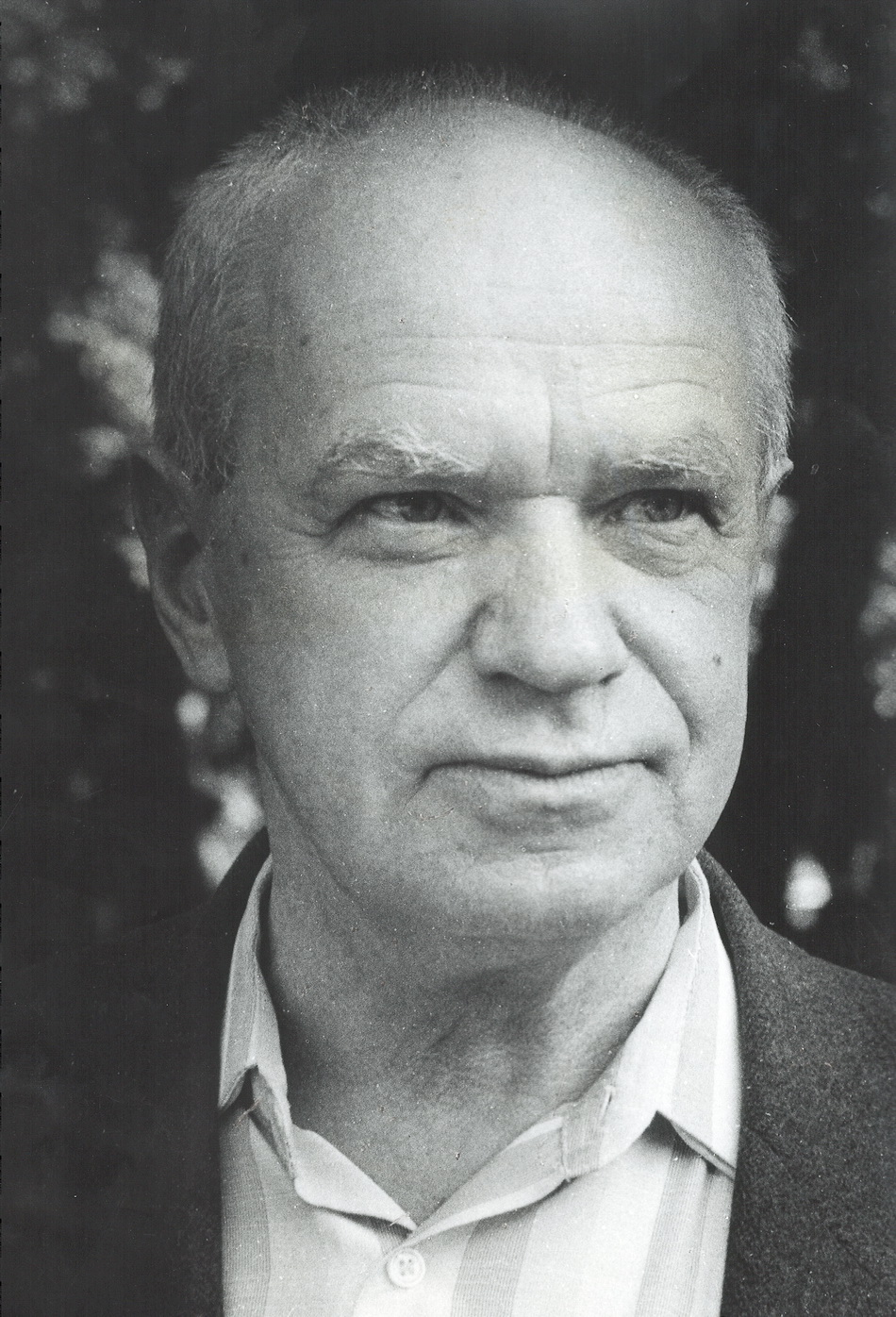БЕЛАЯ ДАЧА
(рассказ)
Человек задыхался от кашля. Пенсне болталось у него на шнурке, лопата вздрагивала в руках, а он всё кашлял, натужно и утомительно. Кровь… Снова она, эта спутница болезни. Странно, что воспринимаешь её уже привычно и спокойно. Кровь, идущая горлом, давно пугает других больше, чем его самого…
— Антон Палыч! — окликнули мужчину со стороны дома.
Человек приложил пенсне к глазам, всмотрелся. Молодая женщина в белом переднике спускалась вдоль ограды, придерживая пальцами длинную юбку, и отчитывала его издали:
— Антон Палыч, опять? Что я, сама не посажу?
Он выдернул из земли лопату, повернулся к женщине боком.
— Вы же знаете, доктор не велел утомляться. Вам отдыхать надо, а вы… Ей-богу, расскажу мамаше!
Она отобрала у него лопату. Чехов, отряхнув руки, направился к дому.
Снизу, из сада, лёгкое и даже в пасмурную погоду светлое здание с небольшой башенкой казалось высоким и внушительным на крутом участке крымской земли. Чехову хотелось постоять, полюбоваться своим детищем издали, но женщина шла следом, точно конвоир. Он поднялся на крыльцо, но и в коридоре слышал за спиной её дыхание, чувствовал позади себя запах её вымытых волос.
— Кушать будете?
— Нет, что вы, Марфуша! Не хочу, — решительно отказался он у двери своего кабинета.
Она стояла, скрестив руки под грудью, и неодобрительно смотрела на него. Чехов выдержал её взгляд, тихонько кашлянул и пошёл к себе. Непригнанная, неокрашенная дверь гулко захлопнулась за ним.
Солнца нет, нет и весёлых ромбиков света на полу. Разноцветные оконные стёкла сегодня лишь затемняют комнату. Пахнет стружкой и лекарствами.
Отсюда, со склона, на котором построен дом, виден весь город, прижатый подковой гор к морю. Разноликие строения беспорядочно набегают друг на друга, сталкиваются, теснятся, словно их стиснула и не отпускает чья-то крепкая, жёсткая рука. Море тусклое, грязновато-синее, неприветливое. Вероятно, там, у берегов, оно неумолчно шумит и беснуется…
Однако нужно работать.
Чехов садится к столу. На столе полумрак. Чехов поочередно зажигает четыре свечи, устанавливает их так, чтобы тень руки не ложилась на бумагу.
Тускло блестят две темные египетские фигурки, поддерживающие свечи на стержнях, похожих на коромысла. На их лицах застыло выражение предупредительной покорности, безмолвия, и это сразу вводит в привычную рабочую колею.
Чехов охватывает ладонью бородку, точно выжимает из неё воду, глядит на дымчатые склоны гор за окном и размышляет.
…Люди и море. Грозная стихия и сезонные страстишки курортного городка, нечто могучее, величественное, извечное и сплетни, наряды, мелочная суета. Почти ничего сильного, свежего во всей Ялте, и редко кто спохватится, очнётся от бессмысленной прострации. Заявится сюда новый человек, такой же сытый и равнодушный, как и другие, поначалу обомрёт у моря, подивится небывалой силище, а уже на другой день будет самодовольно фланировать по набережной, раскланиваться со знакомыми, напиваться от скуки и вожделенно взирать на дамские шляпки. И лишь кому-нибудь, возможно, повезёт, он отыщет родственную женскую душу, и на него однажды снова повеет величием мироздания. И ещё одна чуткая, обойдённая судьбой приезжая дама вдруг тоже почувствует, что жила не напрасно, что действительно кому-то нужна и близка, что настоящее счастье возможно и люди могут, должны быть лучше, чище, светлее!
Нет, еще не перевелись на свете глубокие, любящие натуры. Как Лика, эта женщина с очень правильными, по-русски красивыми чертами лица, с русалочьими волосами-водорослями, собранными на затылке, и смешной неприязнью к крыжовнику. Отзывчивая, доверчивая душа, рвётся к ускользающему от неё счастью, как птица с подрезанными крыльями в недоступное небо, и всё впустую. Отчего? Жаль, что переписка с нею замирает и гаснет…
На четвертушку бумаги тесно ложатся косые строчки рассказа «Дама с собачкой», написанные мелким, тонким, без нажимов почерком. После каждой фразы рука останавливается, никнет, словно набирается сил, и снова быстро скользит по листу бумаги.
За стеной зацокали каблучки, скрипнула дверь, и в комнату заглянула Марфуша.
— Антон Палыч, птица пришла. Сказать, что вас нету?
«Птица Феникс» — частая гостья в этом доме. У неё гладкое, бронзовое, как у японки, лицо, тяжёлые набухшие веки, от её монотонных россказней наваливается сонная одурь. Опять пойдут заунывные речи, жалобы, от беседы с ней начнётся боль в висках. Можно было бы сказаться больным, но его, кажется, видели на улице…
— Нет, Марфуша, пусть войдёт. Проси.
Чехов прикрывает газетой исписанные листки, двумя пальцами сбрасывает пенсне и откидывается на спинку стула. Глаза его становятся близоруко беспомощными, он щурит их, словно вглядывается в даль.
Женщина входит шумно, шёлковые рукава её платья шуршат на ходу.
— Добрый вечер, Антон Павлович. Разрешите?
Не дожидаясь ответа, женщина опускается на стул.
Его имя она всегда произносит с придыханием, смягченно, на иностранный манер — «Антюн». Лицо у неё застывшее, напряжённое, точно она кому-то позирует.
— Какой ужасный день сегодня. Ветер, мгла, серое море, скучные люди… Какая тоска… И нет желаний…
Третьего дня она точно так же говорила о солнечном дне, «ужасном зное». Всегда одно и то же…
Чехов ощущает духоту, как что-то живое, наседающее на него, расстегивает стоячий воротничок сорочки, с надеждой оглядывается на коробку телефона — может, выручит?
Голос женщины приторно назойлив, ни прервать её, ни вставить слово невозможно. Если при ней начать говорить, она повышает тон, заглушая собеседника. Хорошо бы, отбросив условности, вежливо указать ей на дверь… Но Чехов молчит, хотя глухое раздражение в нём нарастает, лицо горит, а к горлу снова подступает кашель.
— Как это всё утомляет — духота, пыль, скука. Завидую служителям искусства. Только у них настоящая жизнь, великие идеалы, свой, особенный мир. Счастливцы… Художнику и смерть легка…
Чехов досадливо морщится. Если бы не слышать её, если бы разучиться понимать слова… Но, как нарочно, каждая фраза отчётливо доходит до сознания.
Где-то, в каком-нибудь Торжке, её супруг из кожи лезет, чтобы содержать семью, пересчитывает по вечерам засаленные пятерки, с непостижимой изобретательностью добывает деньги для того, чтобы эта пустая, презирающая мужа дама всё лето лечила на юге свои мнимые болезни, льнула ко всяким шарлатанам, знаменитостям, «высшему» обществу. И это сейчас, когда по улицам Ялты ходят десятки чахоточных и голодных людей из России. На её деньги можно было бы спасти нескольких…
Должно быть, в семье она очень властна, а дочь её до смерти ненавидит репетиторов и учителей музыки.
— Послушайте, у вас есть дети? — наконец успевает сказать Чехов.
Вопрос застает женщину врасплох. Она замолкает, не докончив фразы, открывает рот, растерянно смотрит на Чехова.
— Дети? — переспрашивает она очень тихо, боится, что её услышат. — Да, конечно. Сын, Сержик, десяти лет. — Она опускает глаза, её крупное, не первой свежести лицо краснеет, — как у молоденькой девушки.
— Уже читает по-французски!
— И любит яблочную пастилу, не так ли? — добавляет Чехов, оживляясь.
Снова заглядывает Марфуша.
— Барыня, вас спрашивает горничная.
— Меня?
— Сынок ваш приболел, что ли. Вас требует.
Женщина поспешно встаёт:
— Пардон, дорогой Антон Павлович, но… проза жизни… суета сует… Дети, знаете ли…
Теперь с её лица исчезло всё напускное. Брови выпрямились, нижняя губа озабоченно выдвинулась вперёд — простая русская баба.
У двери она забывает о Чехове, придерживает платье, торопится. Он смотрит ей вслед задумчиво и грустно.
Голоса в коридоре удаляются и затихают. Чехов сидит неподвижно, пробует сосредоточиться на рассказе и невольно думает о словах женщины.
«Служители искусства», «счастливцы». Как это мило звучит! А на деле… Безденежная, весёлая молодость, радостные минуты душевного подъёма, жадности к жизни, сердечные беседы с друзьями — всё ушло, минуло, растворилось в беспрерывном труде, горах исписанной бумаги, ненужных знакомствах. А в настоящем — недостроенная, но уже заложенная дача, каторжная работа по редактированию, вместо любимой женщины —надоедливые поклонницы, целыми днями шныряющие за оградой…
Писатель… А сидишь без денег, без книг, без друзей, идти некуда, третий год не видишь обыкновенного ноздреватого снега и тоскуешь по нему…
Если бы знать, что его писанина нужна, нужна многим, если бы верить в это и написать что-нибудь необыкновенно бодрое и светлое…
Он выходит из-за стола и останавливается у окна.
На дворе сыро, ветрено. Марфуша выносит из флигеля стулья, ставит у стены. Перед ней только стебли глициний да пасмурное небо, а много ли нужно молодому? Марфуша без передника, на плечи накинут пуховый платок. Она призывно машет кому-то, и вскоре к ней подходит худощавый юноша в студенческом кителе с потёртым воротником.
Студент косится на окна дома и нерешительно присаживается на стул. Теперь его лицо видно в профиль, и Чехов вспоминает, что видел его на приёме у врача Альтшуллера. Диагноз — чахотка. Интересно, знает ли она? Марфуша стягивает с плеча платок и набрасывает ему на шею.
— Тебе нельзя замерзать, — говорит она.
Студент конфузится, пробует сдёрнуть платок, но руки её крепко держат его за плечи.
Он ещё раз оглядывается на окна, неуверенно предлагает:
— Может, пойдём к морю?
— Не…
— Антона Павловича боишься? — спрашивает парень, улыбаясь.
Улыбка у него получается жалкая, вымученная, словно гримаса.
— А чего мне его бояться? Человек ведь. Душевный. — Она говорит убеждённо, с гордостью: — Чехов! Нашу-то белую дачу, почитай, вся Ялта знает!
Чехов отворачивается, торопится отойти от окна. Чуть погодя он надевает широкое, застёгивающееся наглухо пальто, берёт фуражку и трость.
За калиткой его ноги обнюхивает чужая тощая собака с облезлой шерстью и, не поднимая морды, лениво трусит прочь.
С моря дует влажный и крепкий ветер. Он настолько силен, что можно наклониться, опереться о него — и не упадёшь.
Идти нелегко. Полы пальто липнут к ногам, путаются, мешают каждому шагу. Дышать сразу стало труднее, то и дело приходится останавливаться и умерять биение сердца. Если бы снова стать молодым, смело шагать навстречу ветру, если бы вернуть силы, которых остаётся всё меньше…
Улица кружит, петляет, ей тесно среди оград из ноздреватого тесаного камня, похожих на бастионы крепости. Город необычный, многопалубный, с односкатными татарскими крышами, белизна и близость моря делают его похожим на солнечную голубоглазую Венецию.
Встречные попадаются редко. Только у набережной какая-то девчушка в коричневом платье приседает перед Чеховым в реверансе, кланяется ему, новоиспечённому попечителю гимназии. Но почему без пальто в такую стужу?
— Оденьтесь! — кричит он ей вслед и сам не слышит своего голоса.
Море серое, яростное. Волна подхватывает прибрежную гальку, с грозным скрежетом волочит её по дну, долю секунды медлит, точно готовится к прыжку, мятежным гребнем вздымается ввысь и вдруг, непокорная, гневная, неудержимо падает, с глухим раскатистым гулом обрушивается на камни. Лицо обдает солёными брызгами, и вот уже поседевшая, обессиленная волна, злобно шипя, стремительно откатывается обратно.
Чехов продвигается вдоль берега, останавливается, чтобы отдышаться, снова идёт дальше.
Издали он замечает у парапета одинокую фигуру. Когда волна гаснет, исходит кружевной пеной, отчетливо проступают очертания юнкерской фуражки на незнакомце, вздыбленная ветром грива шинели.
Снова пересыхает горло, и Чехов, отворачивая голову от ветра, кашляет в платок.
Темнеет.
Над морем в стороне порта зажигаются тусклые огни, чуть ниже вспыхнул и закачался на волнах синий фонарик рыбацкого судна.
Чехов хотел было записать новую мысль, вынул записную книжку, но вдруг раздумал, заложил руки за спину и долго стоял не двигаясь, лицом к пронизывающему ветру.
— Шторм! — заметил он вслух, чтобы отвлечься от своих мыслей.
— Да, баллов шесть будет, — перекрикивая грохот волн, отозвался незнакомец.
Военный мельком взглянул на Чехова, тотчас оторвался от парапета, выпрямился, повернулся к нему лицом.
— Простите… Вы Антон Павлович Чехов?
— Да. Чем могу служить?
— Извините меня, но… мне так хочется пожать вашу руку!
Незнакомец придвинулся ближе, отыскал руку Чехова, осторожно пожал её. Его лицо потемнело, словно от загара, он щёлкнул каблуками и заторопился к городу.
— Послушайте… — запоздало проговорил ему вслед Чехов и умолк. Впервые за день на его лице появилась улыбка.
Он возвращался неторопливо.
Ветер ожесточенно толкал в спину, остервенело хлопал полою пальто, но идти уже было гораздо легче, веселее, и Чехов даже начал посвистывать.
Негромко, для себя.