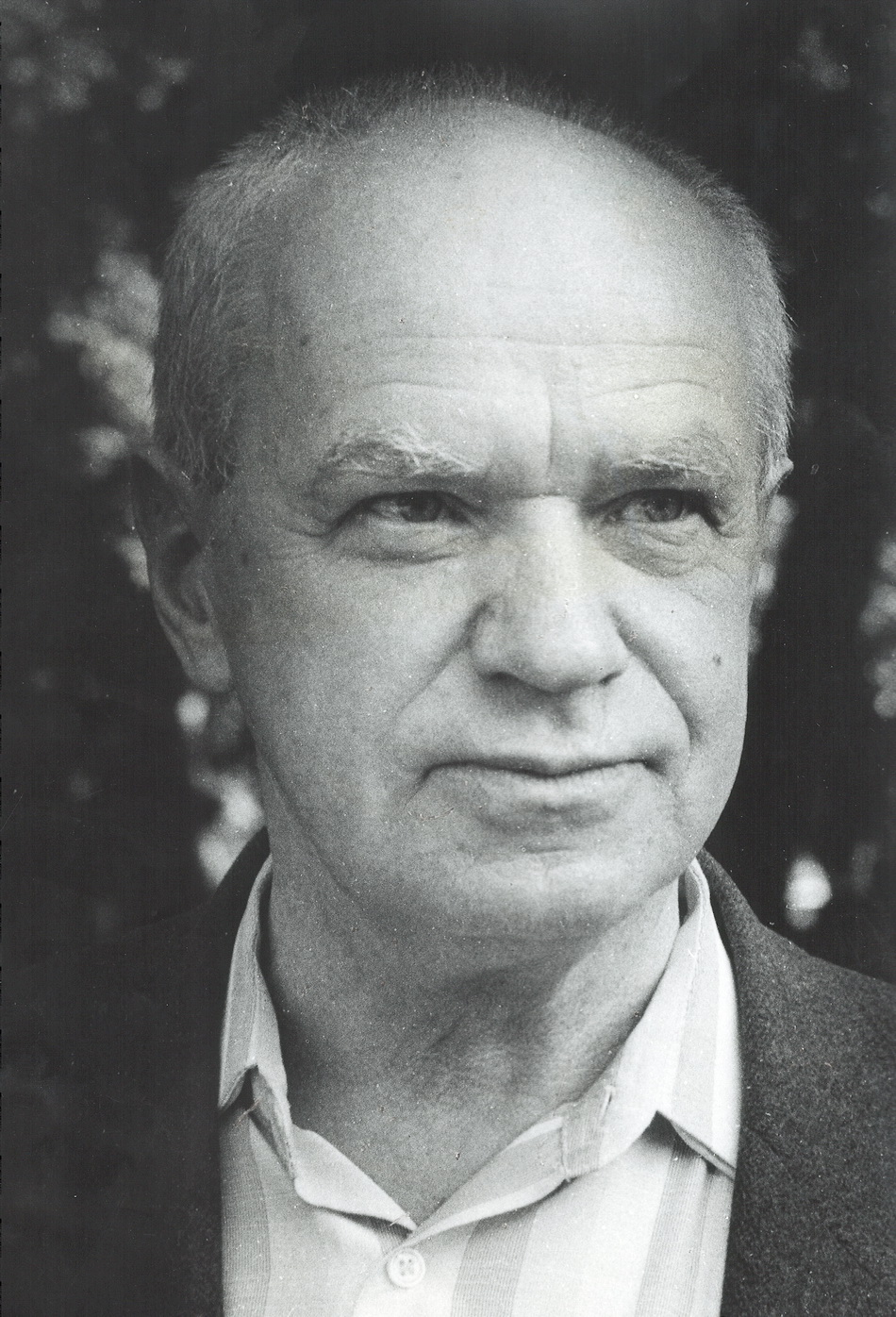18 мая 2022 года известному орловскому писателю Людмиле Ивановой-Пресновой исполняется 85 лет.
 Людмила Николаевна Иванова (литературный псевдоним Преснова) родилась 18 мая 1937 года в Рыбинске Ярославской области, жила и училась в Ярославле. В 1963 году окончила географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Людмила Николаевна Иванова (литературный псевдоним Преснова) родилась 18 мая 1937 года в Рыбинске Ярославской области, жила и училась в Ярославле. В 1963 году окончила географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Много лет работала на педагогическом поприще: в Коми АССР основала детский комбинат и была его директором. Затем трудилась в школах-интернатах города Сосногорска Коми АССР и в районном центре Нарышкино, в средней школе посёлка Моховое Залегощенского района Орловской области.
Ещё во время учёбы в школе, как отмечалось педагогами, имела ярко выраженные литературные способности. В зрелые годы, всерьёз увлекшись И.С. Тургеневым, его жизнью и творчеством, в качестве внештатного экскурсовода Орловского бюро путешествий и экскурсий, стала постоянно посещать Спасское-Лутовиново, написала несколько книг о нём (в том числе пьесу «Однажды раннею весною»). Последнее официальное место работы: старший научный сотрудник мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново.
Живёт и работает в Орле. Книги Л.Н. Пресновой (многие из них посвящены православной теме) издавались в Орле, Туле, Санкт-Петербурге, Москве. Член Союза российских писателей. Неоднократно становилась победителем конкурсов книжных ярмарок, отмечена медалями, почётными дипломами и другими наградами.
Орловский Дом литераторов сердечно поздравляет Людмилу Николаевну с Юбилеем и желает здоровья и новых творческих свершений!
Людмила ИВАНОВА-ПРЕСНОВА
МАТУШКА
(отрывок из документальной повести «Всех скорбящих радости»)
Волком мечась по голой тундре, воет-завывает в холодной трубе недобрый сиверко, забирается под лохмотья, пробирает до самых худых косточек.
Жмётся в комок, водит руками по голым доскам, ищет деток своих, болезная, мечется на полке: нет никого поблизости, одна-одинёшенька она здесь, в глухой нетопленой баньке. Поднапряглась телом, приоткрыла глаза: темень кругом кромешная, лишь под самым потолком чуть белеется крошечное отверстие наружу, затянутое белесым тусклым рыбьим пузырём.
Вгляделась во тьму: где она?.. Не в той ли самой холодной избе, куда её, молоденькую, неопытную ещё матушку, вместе с младшенькими братьями привёз в зиму глухую на постоянное жительство Отец ей, сироте круглой, на всю земную жизнь Богом наречённый, суженый её. Тоже молодой, только ещё рукоположенный во священники, а до того школьный учитель, он вошёл однажды в их убогое деревенское жилище свободным от всех житейских уз, а вышел, вернее, отъехал от этой бедняцкой избы в неведомое, туманное будущее сам-четверток, прихватив с собой и всех их, позаброшенных. В такую вот даль-глухомань, в бедную дырявую избушку церковную, постанывающую от ветров, в холод и голод, во тьму беспросветную попала тогда молодая семья батюшкина.
А вызволение от всех этих невзгод спустя годы неожиданно пришло им от мудрого монастырского старца, к кому от отчаяния горького, от беды извечной — бедности кинулся однажды вконец отчаявшийся иерей деревенский.
Надел он тогда порты мужицкие да рубаху ношеную, линялую, подпоясался потуже, лапоточки приладил, мешочек заплечный — ну чем не мужик — и пошёл за сто почти вёрст киселя хлебать, от прихода отказываться. А матушка молодая уж и пожитки собирает в путь-дорогу, в новые, неведомые дали. И ждёт-поджидает мужа своего из монастыря дальнего.
Вот три дня проходят, а нет от него никаких вестей. Забеспокоилась, на дорогу ходит — всё пустое. И народ-то кругом зашевелился: как же — батюшка пропал! Задумались было на поиски посылать, а он вдруг возьми и объявись…
Постучались к ней одною ночью соседи: матушка, мол, что это в церкви-то будто огонёк светится-играет? Накинула на плечи шаль, кинулась во тьму, до церкви кое-как добежала, толкнула податливую дверь и, забыв перекреститься, так и приросла к месту: в самой глубине ветхого деревянного храма, среди беспросветной тьмы яркой точечкой светился одинокий огонёк свечи.
Вот он вспыхнул поярче, осветив темный лик Спасителя, и в этом чудесном отсвете скорее угадалось, нежели привиделось ей, живое, одиноко стоящее на коленях перед образами, до боли знакомое худое, согбенное тело.
В далёких грёзах не расслышала, как натужно охнула намерзшая дверь и в предбаннике затопотали чьи-то валенки, видимо, стряхивая, сбивая снег. Затем скрипнула другая, ближняя: со свистом дыша, через порог грузно переваливал кто-то большой и бело-расплывчатый, вмиг заполонив всё маленькое пространство запахом свежести и мороженой овчины.
— Как ты тут, дочка?.. — слышно шаря рукой по лавке, простуженным старческим баском говорит глухо вошедший.
Нашаривает, слышно, коробок, долго гремит спичками, чиркает; видно, как затеплился фитилек сальника, и в его скупом отсвете открылось заросшее по самые брови седое незнакомое лицо древнего старика. Должно быть, уж лет сто ему, подумалось вдруг.
— Жива ли уж ты, дочка? — поднеся плошку с горящим фитилем к самому ее лицу, спрашивает старик, а увидя устремленные навстречу огромные глаза, тут же и успокаивается:
— Ну и слава Богу… Значит, теперь у нас с тобой робота пойдет. Счас… Дровишок занесу, подтопим, кипяточку, я тут давеча хлебушка тебе добыл маленько, — определяя светильник на лавку, довольно говорит старик. — Счас, я скоро…
И выходит на мороз.
Сквозь некрепкое забытье слышится, как он туда-сюда все шаркает валенками по доскам пола, хлопочет у печурки, тихонько хлопая дверцей, как звонко постукивают в его руках морозовые поленца.
Почему он говорит ей «дочка», ведь она сама уже чуть ли не старушка… Ну да, для него-то она по возрасту и есть как бы дочка, должно быть, лет под тридцать разницы-то у них.
Под тридцать… А кому же это под тридцать? Ах, да, Егорушке ведь было столько, когда объявился он с нею, молоденькой своею матушкою, в Чекряке…
А ведь отмолил его старец-то тогда у Господа. И семью отмолил, на ноги поставил. А батюшка-то после того многим помог, всю свою жизнь, больше сорока лет, Богу и людям служил, оберегал и старого, и малого.
И жила же округа при нём… Народ в храм пошёл, церковь новую с батюшкой строить задумали — и пошла по земле гулять-погуливать молва о священнике чекряковском прозорливом.
А в один из тёмных осенних вечеров, возвратись со службы, занёс он в избу корзинку, полную тряпья, а там, слышно, пищит кто-то. Подумалось вначале, что котёнок, да нет: ребёночка, девочку крошечную, подкидыша на паперти церковной батюшке какая-то бедолага оставила, доверила, стало быть, — что тут будешь делать.
Да ладно, решили сообща, со своими детишками пускай уж растёт-бегает сиротка Божия… А зимнею ночью послышался в окно робкий, тихий стук: поднялась, затеплила лампу, выглянула на крыльцо — там свёрток лежит, а подальше так от старой церкви человек, чудится, бежит прочь, торопится…
Пригрели, призрели и эту сиротку — а по сёлам и весям уж молва идёт: батюшка чекряковский сироток к себе собирает. Да изба новая ещё не достроена, старая только что не на слом годна, а детьми, своими и чужими, подкидышами, уж вся переполнена. Не спится по ночам.
— Отец, как быть-то теперь, свои-то детки ладно, а сироток-то негоже в холодной избушке растить, — страдает молодая матушка, — может, избу-то всё же осилить поскорее, деток-то у нас — всё Бог даёт — прибавляется, скоро и счёту им не будет…
— Слышь, дочка, спишь али бредишь помаленьку? — трясёт тихонько за плечо, слышно, старик. — На вот хвойки испей горяченькой, попотеть, очнуться тебе надо бы.
И чует она, как большая шершавая ладонь осторожно приподнимает её голову, а запекшиеся губы приятно смачивает пахучая, горьковатая жидкость…
— Жар у тебя, милая, — говорит старик. — В ознобе ты, вот и мечешься-страдаешь. Слышишь ли меня, болезная?
Слышит, слышит болезная, да нет сил глаза открыть. Сквозь помутнённое сознание всё же чувствуется, будто согревает тело солнышко жаркое, словно вдруг лето красное подошло-подступило: вот бы теперь в пруд с водой ключевою, с детишками, сиротками своими дорогими, Богом данными, заодно окунуться-поостыть.
— Мамаш, мамаш, — ясно слышны звонкие детские голоса, — мамаш, вот вам цветочки-василёчки голубенькие на веночек…
Пруд так и кишит детьми. На берегу дом просторный и дворец детский сиротский стоит-высится, красуется перед храмом Божьим. А терем тот высокий насквозь пронизан звоном счастья детского: Анечка, Верочка, Катенька, деточки мои, бегите ко мне — вот сколько деток мне Боженька добрый послал в утешение. Деточки мои…
— Слышь, дочка, негоже так-то, помрешь ведь невзначай, — сильно трясёт её за плечо старик. — Коли слышишь меня, понатужься, открой глазки-то.
С трудом размежаются вспухшие веки: старик сидит рядом, кружка в руке, другою рукой её за плечи придерживает-поднимает, успокаивает.
— Вот и ладно… Деток всё зовёшь — целы внуки-то твои, и дочка тут, на дворе. Да нельзя им к тебе, болезной, заразная ты. Мне-то все одно к концу, а им пожить ещё надобно… Ты уж прости, что из избы-то тебя выпростали в баньку ничейную дырявую, потерпи уж.
Сознание становится вдруг чистым, ясным. Посветлело, в баньке видимо, печурка горит-полыхает, а ей Господь и помощь щедрую, бородача этого славного, подсылает. «Слава Богу, слава Богу за всё», — шепчут бесчувственные потрескавшиеся губы…
С трудом глотнула из рук стариковских заботливых отвару горячего: слышно, как побежал он, жилочки буравя, и силушки-то будто поприбавилось вдруг.
— Бог даст, выправишься, — обещает старик. А ей думается, что нет, куда уж там. Пора… Зовёт, зовёт муж, батюшка её, к себе. И понимает, что на этот раз не в гости, не просто попроведать зовёт, а в путь дальний-неизведанный, безвозвратный. Повидать бы вот только напоследок деточек своих милых, ведь спросит отец-то, как, что, где они, чем живут, служат ли Богу верно, как учил он их и наставлял… Как, спросит, Коля со своим приходом хорошо ли управляется… Невестушка как и деточки его малые, неразумные…
— Жив ли уж Коля-то? — сквозь жар холодеет вдруг вся. — Ведь оставляла-то его больного очень.
И вновь на душу ложится-наваливается тоска жгучая, жуткая. Рыдания вновь подступают к горлу, сознание туманится болью безумною, и мечется, мечется на жёстком ложе обессиленное болезнями и горем тщедушное тело её, крупно и часто вздрагивая, будто сечёт кто тонкими острыми розгами по онемевшим членам.
…Глубокая ночь. Темень, мрак беспросветный. И тишина; чуткая, чёрная, нескончаемая тишина лишь изредка прорежется вдруг протяжным, тягостно-долгим звериным воем…
Остро осязается, как с каждым мгновением выстывает избушка, стужа неумолимо подкрадывается. Ощупью, словно вор ночной, шарит по складкам ветхой одежды, всё туже обнимая разгорячённое тело. Вот уж трясёт-сотрясает крупною дрожью и клацает в темноте непослушными зубами.
Придёт ли снова старик тот добрый? Заскрипит ли дверь, затопочут ли намёрзшие валенки, загремит ли глухой, простуженный его бас: «Дочка, как ты тут, милая?.. Счас я управлюсь…»
Но нет, нет ничего, лишь изо тьмы вдруг выплывает грозное: «Коссова, на выход! Без вещей, свидание!» С кем это у нее свидание сегодня? А-а… невестушка милая, внучки отыскались…
— Матушка идёт, дети, дети! — звенит колокольчиками отовсюду, и на высокой паперти новой красавицы церкви, до отказа забитой народом, открывается просторный коридор, по которому она ведёт за ручку младшенькую свою в храм, а последним идёт старший, первенец их Николай, надежда и крепкая вера всего большого семейства чекряковского батюшки…
— Матушку ведут, матушку!.. — И огромная толпа вот уж окружает их — её, угнувшуюся низко, и молоденького солдатика-конвоира с винтовкой наперевес.
— Разойдись, разойдись!
Приподнимает на мгновение от земли голову: повсюду, насколько можно видеть, кишит народом Одерская площадь, запруженная гружеными крестьянскими телегами. Да-да, ведь сегодня воскресенье, базарный день, и весь уезд Болховский, как всегда, съехался на площадь торговать.
— Разойдись, пропусти, дай пройти!
А народ уж теснит, бежит к ним от базарных дел, слышны вопли призывные: «Матушку, матушку батюшки чекряковского ведут!..»
Что потом-то было…
Как шли мимо Колиного храма, и не помнится. Не помнится, как входили в его двор, поднимались по лестнице: пусто везде, голо — да где же вещи, мебель, рояль, подаренный невестушке Глафире её родной матерью-музыкантшей?
— Бабушка, сыграй бурю на Волге! — откуда-то слышатся знакомые детские голоса и тут же пропадают в тишине пустой голой комнаты, где с единственного жёсткого ложа у окна навстречу ей устремлены громадные на исхудавшем, потемневшем лице, горящие непередаваемым внутренним светом глаза сына, первенца её дорогого.
Этому свиданию, этой горькой встрече старенькой обесчещенной матери с умирающим сыном суждено было стать последним: она сидела на принесённой кем-то табуретке обессиленная, онемевшая от горя, держала в своей руке безжизненную руку сына, а он едва отвечал ей слабым пожатием. Другой рукою все гладила его высокий лоб, густые тёмные волосы — и глядела, молча глядела в эти дорогие, до самого дна заполненные густой слезою безмолвные его глаза.
Слава Богу, слава Богу — ни батюшке её покойному, ни сыночку кровному ненаглядному не суждено, видно, лечь в чужом неведомом краю, во льдах и бесконечных снегах Севера холодного дальнего. Да и её мукам недолго, видно, остаётся…
Как часто видит она теперь где-то рядом эти дорогие лица… Они всё зовут и зовут её… Манят к себе, выплывая из тьмы.
— Отец, всем всё говоришь, а мне-то скажи — что со мной станет?
— Умрёшь в бане.
— Дочка, дочка! — прорезывает тьму знакомое. Но откуда-то уже с другого, полузабытого и далеко отодвинувшегося конца земли…
— Слышь, милая, дочка-то твоя всё у порога стоит, стынет-убивается, просится в избу — ай пускай у порога-то постоит, чо ли… А?
Уловив её просящий взгляд, поднимается старик с места, выходит в предбанник, выглядывает наружу, зовёт негромко так. О-о… какое же блаженство — видеть, хоть и заплаканное, дитя своё кровное, неразумное.
Стоит у порога доченька, руки простёрла — вот-вот сорвётся к ней птицею.
— Ну, нагляделась? Пойдём, пойдём, милая, деточки ведь у тебя, кабы чего не стряслось…
И рвётся назад, заглядывает за плечо старика чадо страждущее, скорее чуя, чем видя, как в безмолвной молитве раскрываются спекшиеся губы материнские. Шепчут, шепчут молитву дорогую за деток своих сиротиночек…
«Отец Святый Превечный Боже, от которого исходит всякий мир и всякое благо! Тебе молюся о детях, которых Твоя благость мне даровала — о Николае, Василии, Тихоне, Александре, Алексее, Елене со чадами малыми, домочадцы и близкими. Ты дал им жизнь, оживотворил их душою бессмертною и возродил Святым Крещением, дабы они жили сообразно с волей Твоей и унаследовали Царство Небесное. Сохрани в Твоей благости до конца их жизни и освяти их Твоей истиной, да святится в них имя Твоё…»
— Слышь, милая, — одной рукой приподнимая с жёсткой подушки ее голову, в другой держа кружку с пахучим отваром, спрашивает старик. — Давеча ваших на Соловки, знать, гнали, ноне передыхают они в нашей-то деревне — метёт больно сильно, — нет ли твоих-то там, как твово зовут-то?
Нет, нет среди гонимых священников дорогих её родных-сотаинников… Не судьба замерзать им во льдах да снегах-сугробах, не голодовать, не маяться в чужой далёкой стороне, не слышать окриков проклятых, оскорбляющих самое святое — душу человеческую: слава Богу, слава Богу за всё.
И всё существо её истерзанное вмиг окутывает несказанная благодать Божья. Тёплая, светлая, далёкая благодать, чудом прорвавшаяся в глубь души, иззябшей горем, истерзанной в клочья, но чуть живой — её женской, материнской щедрой души, где потаённый уголок всегда находился для того, кто в неё, в эту добрую душу, хоть раз попытался заглянуть…
Не столь долгим оказалось для домочадцев чекряковского батюшки видимое благополучие: грянула германская, и в село потекли другие совсем богомольцы. Жены и матери молили Господа о здравии своих призванных на войну мужей, братьев, сыновей, а иные уже служили молебны за упокой. Калек довольно появилось в храме: как жить, как теперь быть им, израненным и беспомощным, что делать дальше?..
А батюшка всё поучает: «Как жить?.. А с Богом: чуть засвербит душа, начинайте беседу, ведь ты не один на свете, Бог-то — Он всегда рядом, у порога стоит и ждёт, когда же ты обратишь и на Него внимание своё рассеянное, позовёшь когда… А ну отойдите в сторонку, побеседуйте на пару, а тогда, коли не секрет, и поведай мне, какая же подмога тебе от Него пришла…», — говорил он теми же словами, коими когда-то его, незадачливого деревенского иерея, поучал легендарный оптинский старец.
Сколько же разорённых душ принял у себя протоиерей прозорливый… Сколько их, успокоенных и обнадёженных, проводил из своего Чекряка на большую дорогу, чувствуя, видя даже, каким жарким огнём неугасимой веры светились те недавно совсем было потухшие, скорбные взгляды…
А из сердца никак не идут слова недавние стариковские… Побывал, побывал не раз узником тюремным батюшка её дорогой, муж её венчанный.
Были то скорбные, бесчеловечные времена раскола Церкви Российской, Христианской Православной. Приехали однажды к ним в Чекряк «Отцы святые сановные». С охраной государственной, со свитою пышной. Зашли в храм, велели послать домой за отцом Егором — душа так и обмерла.
Через час возвращается от них батюшка: «Колю, Колю скорее собирай, отправляй семью отсюда, как бы беды не было: обновленцы!!»
До раннего утра «пробеседовали» гости с чекряковским священником, сидя за бесконечным ужином в столовой их дома. Сама она, временами входя к ним проследить, не надо ли чего ещё подать, улавливала, слышала даже: вначале терпеливые, ласковые уговоры, под утро сменившиеся бессвязными, как казалось, угрозами, постепенно перешли и в окрики.
— Вот что, мать, — проводив гостей и всходя на крыльцо дома, грустно говорил ей муж. — Вот что: меня, конечно, теперь возьмут, так ты из Чекряка ни на один день, на час — ни на минуту не покидай его ни при каких обстоятельствах. Знай, что я отсижу и приду, а до тех пор всё здесь остается на тебе: храм, дом, дети приютские, богадельня, больница, крестьянам помогай, а пуще всего храм, храм берегите от разора, богомольцев привечайте, окормляйте по-прежнему всех. Дьякон-то мой молод, так ты ему помогай, слушай, что говорит людям, и помогай советом. И службу… Упаси вас Бог службу разладить: каждый день чтобы обедню и вечерню по-прежнему — и по полному чину. Знаю, трудно вам будет без меня, — но не труднее, чем Господу нашему на кресте висеть было.
И ведь выдержала… Вот только до тюрьмы орловской, до Централа печально знаменитого того каторжного так и не добралась ни разу, ни разу не навестила тогда родимого — не посмела ослушаться его строгого наказа. И лишь такие вот, как теперь, одинокие чёрные ночи и были единственными свидетелями тех жестоких, поистине нечеловеческих мучений исстрадавшегося от неизвестности сердца её.
Думалось тогда, что нет, не выдержать ни за что, улетит из её надорванного переживаниями слабого тела душа, — но нет, молитвы помогали: выдержала! И эту, первую, и другие тюрьмы его, кои ещё предстояли, — за какой-то несуществующий золотой крест, что в их храме всё искали и искали власти в кожаных тужурках с маузером на боку.
Разоряли храм богатый, срывали со стен его святые иконы в красивых дорогих окладах, подаренные прихожанами, пинком вышибали из них намоленные образа, тут же вышвыривая в окна: доски!..
Гора драгоценностей росла, а окрики новых хозяев неслись всё более грозно: «Говори, где крест золотой! Крест где запрятали?! Снова в тюрьму захотелось тебе, поп?!..»
И вновь, как в те чёрные дни, скорбит душа и заходится в печали и страхе бедное больное сердце — вот-вот остановится.
Но лишь чёрная темень, мрак беспросветный, тишина… Чуткая, чёрная, нескончаемая тишина лишь изредка прорежется вдруг протяжным, тягостно-долгим звериным воем…
Из книги Л.Н. Ивановой-Пресновой «Россиянки» (Санкт-Петербург: Агат, 2004)