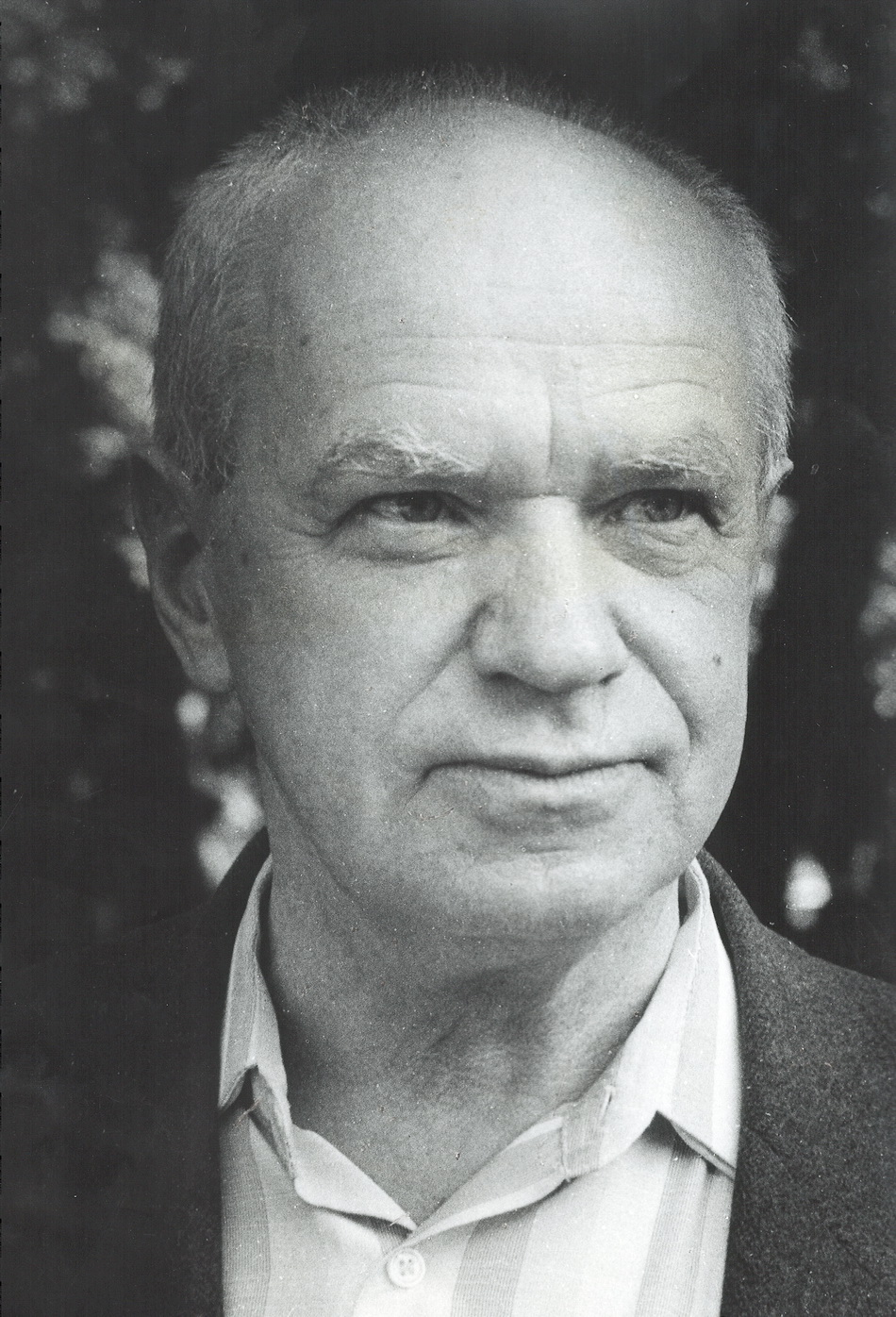ГРАША
(рассказ)
Из городских копчёных лабазов я впервые попал в лесную деревню. Было начало пятидесятых, ещё повсюду на еловниках валялись гнилые танки — словно дохлые жуки. Места же там райские, дороги песчаные и ровные, как тонкие стрелы; ни горки, ни пригорка, только витые завороты, будто и эти тележные тропы-стрелы покорёжило в военной огневой топке.
Мне шёл семнадцатый, и было чуть странно и страшно, что война так широко пылала. В детстве, пережитом в разбиваемых подвалах города, казалось, что воющие бомбы падают лишь на наши несчастные каменные улицы; а гдето, в таких вот длительных рощах и лугах, стоит бесконечная тишина и, как сейчас, пахнет льном и хлебом.
Злая голодуха уже отступала, народ вокруг жил открытый и приветливый. Я, будущий художник-оформитель, приехал стажироваться на всё лето, и мне указали размалевать свежую колхозную избушку-клуб какими-то бодрыми картинками и зазывными лозунгами.
Я плохо понимал, что такое колхоз; меня больше тянуло на распластавшуюся в уютной низинке ферму, где смелые девки-перестарки наливали мне гладкий глиняный кубанчик молока, мой суточный рацион, настоящее пиршество.
Доярочки встречали меня ласково, обнимали и тискали своими тёплыми руками; но это было потом, а сначала те заморенные шутницы устроили со мной таинственную смехоту, от которой я долго краснел.
— Молочка нада? — спросили они распевно. — Так сам и подои коровку-та!
И указали на дородного бычка, уставившегося в моё конопатое лицо большими спокойными мокрыми глазами.
— Ты сперва вымечко ей мягкой водичкой омой, потерёбкай, приучи; а потом за доечку, за доечку, вон она у пузца висит, ласковая… И дали мне кружку с обогретой солнцем водицей, и стал я старательно мыть бычку его крепкие яички-яблочки, а он, лобастенький, жевал жвачку, мотал пухнатым коротким хвостом и оглядывался на меня с некоторым удивлением.
Доярки расхохотались всеми своими звонкими и надтреснутыми, тонкими и сорванными голосками — но не надолго, потому как хотели не издёвки, а короткой потехи; оттащили меня, молча пунцовеющего, от облегчённо вздохнувшего и ничего не понявшего бычка — и каждая прижала мои горящие щёки к своим большим парным тоскующим грудям:
— Ах ты, милка необидчивый! Ничё, мы никому не скажем, а вот они какие доечки, вот, чуешь? Эх, был бы ты постарее, настоящий довоенный, всех бы нас в жёны взял; а так тебе, родненькому, одна дорожка — к Граше-Гранёше.
Кто такая Граша, вызнавать мне было не по настроению, только стал я, сам того не желая, малевать на горбатой клубной стенке советскую молочницу с передовым взглядом и со значительно большим, чем подобает, бюстом.
Пришёл кряжистый председатель и крупно заматерил меня:
— Этта шо тут за титьки, как фляги? Вместо титьки у неё должна быть звезда, а лучше две; понял, диверсант? Мы тут воевали, а ты несознательной непотрёбностью буржуазной нас так тут пугаешь? Я тебя живо сдам, куда нада!
Председателя звали Евген Родичев, и он был единственным, кто мне смутно не понравился.
Кругом стояли дивные перелески, гривки их на закате делались ярко-розовыми, как кремлёвские рубины, которые я однажды увидел в первом цветном киножурнале; но тут этих лесных берёзовых рубинов было много, бессчётно, и жили среди них простые сказочные люди, как раз такие, как в журналах, — и лишь Евген марал чистый мирный воздух криками-разрывами:
— Трах-та-тах, твою! Я в окопе сидел и орден за это от нашего великого правительства получил, кровью истёк из всего сердца, а ты вредишь моему колхозу? Ты что силос так заунывно топчешь? Хочешь, чтоб он перегорел? Утопчи яму, как нада, чтоб нашим передовым коровам на всю зиму его было, чтоб показатель у них стал на всю область.
А область эта была то ли Брянская, то ли Гомельская, а может, даже Черниговская; там Десна до сих пор такая течёт, что пей воду из неё ладошками; сто прохладных горстей черпнёшь — не напьёшься: пресная, глотается как воздух; божий напиток.
Село звалось Боровичи, там Боровичей, как у нас Ивановок: Верхние и Нижние, Большие и Малые, Первые и Вторые — всё Боровичи. И говорят там люди, словно песню поют, даже поругиваются нараспев и спорят с улыбкой и прибаутками.
Едва ль не половина их тогда были фронтовые калеки. Добрые бабы, которым посчастливилось стать не вдовами, а иным сделаться даже свежими жёнами, носили обрубленных мужей, словно больших дитятей, и купали их в жёлтых корытах и дворовых банях; и я сам видел такой обрубок, вся спина его была сплошной красно-сиреневый шрам.
Былой солдат просил помылить его, я елозил полынным хозяйственным обмылком по его рытвинам и боялся, что рука моя нечаянно прорвёт эту упруго-морщинную кожурку и провалится к его внутренностям, и напорется на минные осколки, что сидели под громадным шрамом и чувствовались моим трусливым юношеским пальцем.
Немало было и детей-инвалидов — детвора непрестанно шуршала по вспоротым войной логам, копая патроны и подрываясь, задаром губя свои любопытные ангельские души.
Самоструганые костыли, выгоревшие до безнадёжной белизны картузы, перешитые дырчатые карманы, малыши с хлипкими помочами через плечико, на одной ломаной пуговичке или даже крючочке — и ласка, льющаяся из всех глаз, ласка синяя, льняная, врождённая.
И этот председатель с неизменным своим орденом на мятом, но целом, не штопанном пиджаке, на тяжёлом трофейном велосипеде; говорили, что никакой он не окопник, а «писаришка штабной», однако слушались его безропотно, поскольку времена были крепкие и резкие — как суровая нить.
Особенно Евген допекал Заброду, парня чуть постарше меня. Правда, и было за что — Иван Заброда этот вырос неописуемым шалопутом. Таким же удался и его брат-двойничок Вовка.
Они были безотцовщиной, а это дело известно какое: безотцовщина всегда первой глядит в урканы. Их бы давно впихнули в колонию, однако братья считались ещё и придурками; тихими, но патологическими выдумщиками.
Ну представьте: увидя у вернувшегося в середине войны Евгена (вот такой окопник, сумел не довоевать) блескучий орден на лацкане, Иван, ещё мальчишка, шепнул брату:
— Мы тоже сейчас медаль заработаем. Пойдём на Десну, там в затоне прорубь. Ты в неё вроде бы упадёшь, а я тебя как будто спасу. И получим на двоих медаль за спасение утопающих.
И, воодушевлённые, побежали вприскок, а свидетельницей заманили Грашу, совсем ещё тогда несмышлёныша.
Граша была побочной дочкой Евгена, жила отдельно с мамой-сиротой, он дочь не привечал, хоть прилюдно и не пинал. Граша родилась сухорукой, а это был сталинский недуг, Евген откуда-то знал.
Ну что, вернулись они с заснеженного затона, Вовка весь в трясучке и во льду; Граша лепетала, что, вправду, он то ли поскользнулся, то ли сам жиганул в прорубь, а Ванька его из неё тащил и кричал: «Грашка, беги к отцу, пусть медаль нам выписывает, я брата спас».
Это что такое? Мать отогрела обоих на печке и высекла; а Граше навсегда запретили водиться с этими полоумными.
Но после войны оба из тщедушных опят превратились в тугих боровичков, вытянулись, окрепли и сделались безотказными работниками, навоз с фермы только они и выдирали. Сутками могли там без продыху копаться, вдвоём за десятерых это дерьмовое дело справляли.
Евгену же строили козни. Ночью в его сад заберутся и все яблоки на ветках понадкусывают. Висит опозоренный белый налив, каждый плод будто луна щербатая.
И ведь поймать братцев ни разу не смогли: они и перепелами, и совами кричать умели, и даже председателеву собаку заговаривать. Сидит на цепи псина, близкую перепелятину, исполняемую Иваном, в высоком воздухе вынюхивает, а на другом конце ровно покошенного колхозниками-подёнщиками сада лёгкий и прогонистый Вовка на ловких ходулях неслышно шастает, опираясь на долгую палицу, и лучшие яблоки выгрызает, ни одного не рвя в карман.
Люто возненавидел Евген обоих Заброд. Притом, Иван повадился к Граше, пленил тем, что голоса меняет: то речью вылитого Молотова запустит, то забормочет что твой всесоюзный староста дедушка Калинин из радиотарелки.
Граша себя, конечно, блюла; но в ту пору куда сухорукой-то? Ясно, только с шалопутом. Открыто они не гуляли, однако при встречах друг дружке улыбались — застенчиво, словно две звёздочки на краешке ясного вечера.
В то лето, что я там был, Граша стала заглядывать в клуб смотреть мои малеванья, днём, когда там пусто, мушливо и гулко.
Войдёт, станет у двери и завороженно оглядывает мою дурацкую тётку с кривыми серпастыми пятиугольниками вместо грудей.
Недаром, несмотря на увечье, доярки кликали меня к Граше: она была красавица. Глаза её смотрели, как два росистых василька из ржи, золотое пшеничное личико светилось будто изнутри. Вся фигурка её была тот же колосочек; едва созревший, тонкий, счастливый.
— Небушка, небушка побольше нарисуй, — сказала как-то она, и я впервые услышал её голос; мальчиковый, даже малышовый.
Она была мой одногодок, доверчивость её была русалочья. Волосы облепляли влажную от дневной жары шейку, и на шейке той билась синяя, бирюзовая жилка.
Я молчал, потому что говорить с таким существом надо каким-то другим, небесным языком, а я не мог в тот миг изъясниться и на простом земном.
Она подошла и погладила меня по лицу левой рукой; правая качалась ивовым прутиком. От её косновений прянул аромат, я навсегда запомнил его; от ладони, от всей Граши шёл чистый девичий запах, ему нет названья.
Такой запах качает тебя в волшебных снах, греет в гробовых ледниках и возвращает к жизни из самых тяжких, самых глубинных и больных запоев.
— Научи меня, — не отрывая мягкой душистой ладошки от моих покорно зажмуренных глаз, всё тем же голосом попросила Граша. — Я смогу и одной рукой. А за это… Я за это буду ноги тебе мыть. Каждый день… всю жизнь.
Ещё секунда — и я бросил бы грубую и неумелую свою кисть и обхватил бы Грашу, и сам омыл бы её босые игрушечные ступни умилёнными слезами и поцелуями.
Но стукнула гремучая, тяжёлая, какие были тогда во всех домах, дверная щеколда — и у порога появился Иван.
На его некрасивом, с буро-серыми рябинками лице не отразилось ничего: ни удивления, ни смятенья, ни злобы. Иван переступил с ноги на ногу и понуро — такой понурости я у него ещё не видел — сказал:
— Гранёша… пойдём вечером к Десне.
Граша наконец оторвалась от меня, опустила разом потухший васильковый взгляд и молча вышла — неслышно, словно спугнутый летучий серафим.
Он поспешно пропустил её, постоял ещё с минуту, не глядя на меня, щуплого и съёжившегося, — и тоже ушёл.
В ту же ночь Евген прихватил Ивана у дочкиного шалашика. Граша всегда спала в этом шалаше, уютной тростниковой колыбельке поодаль от сада, на чудном деснянском склоне, куда падали первые утренние и последние вечерние — в общем, самые колдовские — солнечные лучи.
Войти в этот шалаш-куренёк было просто, но Иван всю ночь лежал в пятнадцати метрах от него и, похоже, плакал.
Когда Евген вытащил его из задубевшей травы за чёрные пятки, глаза у Ивана были мокры от росы и тоски. Председатель бил его страшно и умеючи — под печень, не оставляя следов. Иван не кричал, но так и остался там, пока не прибежал Вовка и не уволок брата домой.
Слабо возгорелся зазывной рубиновый рассвет, от реки-шептуньи тянуло мечтой и хмелевою прохладой; и Граша сладко спала, не ведая беды.
Днём мы с нею пошли к Забродам. Иван лежал на скорбном боку и пролежал так всю неделю.
Потом он уронил нам:
— Хочу брусники. Она уж созрела.
— Мы принесём, — с поспешной готовностью откликнулись Вовка с Грашей.
— Нет, пойдём все вместе, — ответил Иван в подушку. Мутно посмотрел на меня и добавил: — И ты, Юрик, с нами, если хочешь. Не бойся, у меня к тебе зла нет… А ты, Гранёша, лучше останься.
— Я с вами! — голос Граши высоко зазвенел, как колоколец-подголосок на полном ударе. — Иначе вы Юру убьёте.
— Зачем, он же твой друг. А раз твой, то и наш.
— Я иду, — сказал я, но подбородок мой чуть дрогнул.
Они заметили, однако не усмехнулись.
Доярки-перестарки с сомнением глядели от фермы, как мы на ночь глядя гуськом спустились и по тихо хлюпающему долгому мостку перешли за реку.
До заката, правда, оставалось часа три, но скоро мы поняли, что Иван ведёт нас явно не за брусникой.
Шли без разговора — пять, семь, десять лесных километров. Ягодные места уплыли в сторону, вокруг пепельно-сажными пятнами зачернели обрывы.
Это явились дикие края, где человек теряется и пропадает верней, чем иголка в сене.
Сердце моё трепетало: так растерянно стучит оно в жаркой простуде, в какой-нибудь крупозной пневмонии, или перед ожиданием бандитского ножа в подворотне, когда наверняка знаешь, что за тобой идут по следу.
Граша держала мою руку, я в ответ обнял её чудесную талию, холодную, как хрусталь, и мягкую, словно полуденный сон.
— Ваня, зябко и темно, — крикнула вперёд Граша.
— Сейчас, потерпи, ласка моя, — ответил он, не оборачиваясь и ускоряя шаг.
Вовка же обернулся и засмеялся, но тоже по-свойски:
— Сейчас будет трофейное кино. Согреетесь.
Вовка был послушником брата-двойняшки, так же ряб и кос в лице и наверняка посвящён в задуманное.
Тем временем Иван, как мощный циклоп, раздвинул руками весь угрюмый лес, откинул-толкнул камень — и открылся холодный зев узкой пещеры, шагов через двадцать обернувшейся широким тоннелем. Стен во тьме не было видно, но идти стало легко.
Через минуту Иван пошарил где-то сбоку, чиркнул спичкой и зажёг фонарь, невесть откуда взявшийся.
Тоннель сделался как столбовая дорога, а ещё через минуту Иван подошёл к ящикам, это были обитые доской аккумуляторы, пощёлкал — вспыхнул тусклый электросвет.
Я вгляделся и обомлел. Граша ахнула. Мы стояли посреди просторной бетонной ямины с каменными потолками и железными шкафами в длинной сухой стене.
Вдоль другой стенки угрюмыми аккуратистыми рядами выстроились лоб в лоб мотоциклы с колясками.
— Немецкий ухорон, — сказал довольный нашим изумлением Вовка. — Они думали, что через полгодика вернутся.
Мотоциклы слабо сияли краской и смазкой, баки были с бензином. В ящиках лежали автоматы; десятки, сотни автоматов, похожих на козлиные ноги; тут же многослойными стопами высились наполненные зарядами прямые рожки, а в шкафах висела вражья форма, чистая, глаженая, и впрямь как в трофейных военных хрониках.
— Вот тебе, Гранёна Евгеновна, полковничий нарядец, — засмеялся Иван, подавая мундир и обширную кожанку с витыми золотыми погонами да нашивками. — Ты будешь наш дер комендант.
Девушка не могла прийти в себя, но всё надела, и чёрно-золотую фуражку тоже.
— А мы с Вовкой обрядимся в полевую форму.
Я был в шоке, как и наша подружка.
— Неужто всё тут столько лет, и никто этого не нашёл?
— Вот я и нашёл, — ответил Иван, надел каску и сразу превратился в угрожающего вояку, каких мы тогда ненавидели столь судорожно, что даже стрёкот слабого кинодвижка за перегородкой дощатого городского кинозала казался нам ответной нашей стрельбой.
— Мы с Вовкой умеем за рулём, а вы с Грашей будете обер-персоны в колясках. На-ка и тебе, Юрик, кокарду. Ты теперь штурмбанфюрер, иль вроде того.
— Чего ты задумал? Мы что, куда-то поедем?
— А как же! Прямиком к танцам.
— Да за это… Да и не выедешь отсюда.
Иван в ответ ткнул ногой пускач и передний мотоцикл ровно, сыто заурчал. Вовка взметнулся на соседний мотоциклет и тоже одним движением завёл.
— Гранёша ко мне в коляску, Юрик к Вовке. Пуговки на воротниках застегните, автоматы на затвор. Стрелять только вверх.
Это было слишком. Мы с Грашей протестующе отпрянули к стене. Топорщащееся из распахнутых шкафов обмундирование целого немецкого мотополка упруго оттолкнуло нас обратно.
— Нет, я не поеду.
— Комсомолец, да? Ничё страшного, мы едем сдавать оружие. Я этот ухорон ещё год назад нашёл, но скажем, что сегодня.
— Тогда можно, — нерешительно проговорила Граша, осторожно села в коляску, подобрав под фуражку волосы и став похожей на самого молодого полковника рейха. — Только стрелять никто не будет, ладно?
Не знаю, зачем я тоже сел. Видно, побоялся остаться один здесь, в этом зловещем тайнике войны. Коляска была удобная, просторная, с ручками.
Фары вспыхнули ярче, осветили ловкий выезд. Мотоциклы рванули с хода, тут же оказались на дороге. Немчура, убегая «на время», всё продумала до наглых мелочей. В ногах у меня были пристёгнуты ящички с консервами, с гранатами, даже кобура с заряженной пистолью.
Автомат я не взял, а Граша, как и братья, перекинула «шмайсер» через плечо и стала вдруг необыкновенно весела.
В Боровичах шумел хоровод — тогда ещё водили хороводы. Девки-перестарки вперемешку с десятилетней мелюзгой, явившейся на этот свет аккурат перед войной, послевоеннные пузанчики, выжившие на лебеде (некоторых вскармливали даже паутиной, бережно вынутой из углов, смятой в комочки и ошпаренной кипятком), — все топтались на околице, радуясь тёплой ночи и зрелому лету.
Мы скатили с большака и резко стали по обе стороны гульбища, осветив его ещё никем не забытыми страшными перекрёстными огнями.
— Хенде хох! — заорал Иван чужим, умело переделанным баском. — Аусвайс! Матка, яйки, курка!
А Вовка наперекор Граше долбанул вверх из автомата сухой, чудовищно знакомой очередью.
Народ разноголосо охнул и кубарем скатился от мотоциклов в жёсткие боковые травы. Только мелочь пузатая села, где бегала, и обиженно разревелась, будто при виде задиристого клювастого петуха.
— Цурюк! — крикнул брату Иван, вылетая с околицы обратно на дорогу. — А вы в колясках оба молчите, ваши голоса сразу узнают! И больше не стрелять!
— Куда мы? — крикнула ему Граша, уже снова в смерть перепуганная.
— К папочке!
— Не надо, Ваня, миленький!
— Надо!
Евген ещё сидел в правлении: тогда силились по примеру московских верховников работать допоздна. Делать было нечего, и Евген играл в карты с хитроумным счетоводом Подпертидырой. Это они называли «считать трудодни».
Фары осветили распахнутые окна и будто сделали в них пожар. Покрытый красным бархатом стол стоял прямо у подоконника и запылал, как жаровня.
Иван, в больших фашистских мотоциклетных очках, просунул дуло сквозь раму и вскричал истинным голосом Геббельса:
— Хенде! Мы вернуться! Кто есть председатель?
Евген и Подпертидыра быстро, словно привычно, вздёрнули руки и разом показали друг на друга.
Иван весело ткнул дулом Евгену на лацкан:
— Хер-рой? Ор-ден?
— Э… это не мой… — враз осипнув и кадыкасто сглотнув, выдавил Евген.
— Воевал с вермахт?
— Нет… нет! Плен, плен! Партизаны за это… чуть не расстреляли.
Евген был жалок, растерзанно требушист, будто посаженный на кол. Здоровые телеса его крупно тряслись, а физиономия, вечно блестящая и хищная, сразу вылиняла; и шевелюра, всегда любовно расчёсываемая железной гребёнкой, словно полезла с затылка, обнажая залысины, с которых катились горошины серого пота.
— Яволь, — едва сдерживая ухмылку, сказал Иван. — Список коммунистов на дер тыш, на стол, шнель.
Председатель, поддёрнув отчего-то сползающие штаны, вынул, судорожно путаясь в бумагах, разлинованную ведомость уплаты партийных взносов, протянул через окно.
Мохнатая его лапа, что всего неделю назад так зверски отбивала Ивану печень и почки, дрожала, как ножки барашка, ведомого на заклание.
Иван взял ведомость, медленно порвал на неровные куски, кинул обрывки в морду Евгену — и вдруг по-детски зашёлся в неостановимом смехе, сбросив очки и каску, указывая на председателя пальцем и притопывая в хохоте.
— Иван? — завизжал осрамлённый Евген, и грязные ручьи пота покатили с его башки ещё сильней, теперь уже от бешеного гнева. — Решу, паскуда, на этот раз точно порешу!
Председатель брюхасто полез в окно, яро торопясь цапнуть шалопута за литую немецкую бляху.
И уже почти цапнул. Но тут трещёткой затарахтел из коляски автомат. Стреляла Граша.
Твёрдой своей левой ручонкой она жала курок до тех пор, пока боезаряд не выбил всю смолистую щепу между окнами; стреляла, плакала и смеялась от страха.
А когда автомат стих, дочь стояла над распластанным на полу отцом, закрывшим голову руками, не желавшим вставать до тех пор, пока не приехали из милиции и военчасти…
Учтя просьбу всех боровичан, Ивану, Вовке и Граше присудили по году, мне и вовсе полгода.
Евгену же влепили полную десятку.
За то, что отдал список коммунистов.
***
Совсем недавно я вновь побывал в Боровичах. Боже мой, через пятьдесят с лишним лет, когда мне уж не семнадцать, а за семьдесят… Жизнь прошла — да нет, не жизнь, а пять или целых десять жизней. Каждому человеку в его единый земной срок назначено отведать много совершенно разной жизни.
Меня встретил Владимир Заброда. Он прожил с Грашей все эти полвека и повёл меня к своему дому, к ней.
По законам любовных писаний принято, что главная героиня с годами ничуть не меняется, и в финале всё так же светлы её глаза и притягателен облик. Может, и верно.
От нормально располневшей Гранёны теперь пахло молоком и пирогами — и этот запах был не менее приятен. Разве что не стучало моё сердце, и не душил сладкий обморок, не захлёстывала счастливая волна. Всё стало спокойно, хорошо, по-родственному. То есть, по-стариковски.
— Какой ты был… — с добрым сожалением сказала Гранёна, рассматривая мои обрюзгшие плечи и лицо. — Рисуешь?
— Куда уж безрукому, — пошутил я и тут же смутился от своей бестактности.
— А она и одной рукой мне четырёх вынянчила, — сказал понимающе Владимир, поджарый, ставший красивым той особой старческой красотой, которая есть награда людям честным и незлобивым. — Сходим на могилу к Ивану?
Иван умер двадцатилетним из-за отбитых почек.
Мы пошли втроём. Боровичи сделались совсем другие, хуже или лучше, не разберёшь. Избы-клуба не было, как и фермы, и тех доярок; осталась Десна-шептунья и закатно-рубиновые гривы лесов.
В пустой песчаной улочке нам попался трухлявый дед, сидящий на завалинке и встретивший нас полупоклоном и какой-то мёртвой улыбкой. Мы прошли мимо, я оглянулся: он смотрел вслед с теми же неподвижно растянутыми губами.
— Странная у него улыбка.
— Так это же Евген. Он такой с отсидки вернулся.
Я заполошно вновь оглянулся.
— Что, посмирнел?
— Куда там… Бригадирил и долго ещё людей гонобил. Делает пакость — и тут же кланяется, и лыбится заискивающе. Головка прохудилась у вражины.
— Хватит, ладно, — мягко попросила Граша. — Значит, сполна заплатил. А сейчас он уже, считай, не живёт.
— Так и земля ему коменем.
Больше не говорили, только здоровались со встречными. Был яблочный Спас, люди шли и тихо светились.
Могила Ивана была проста, низенька, в ровной ухоженной травке. У креста лежало белое яблоко — цельное и чистое, как душа.