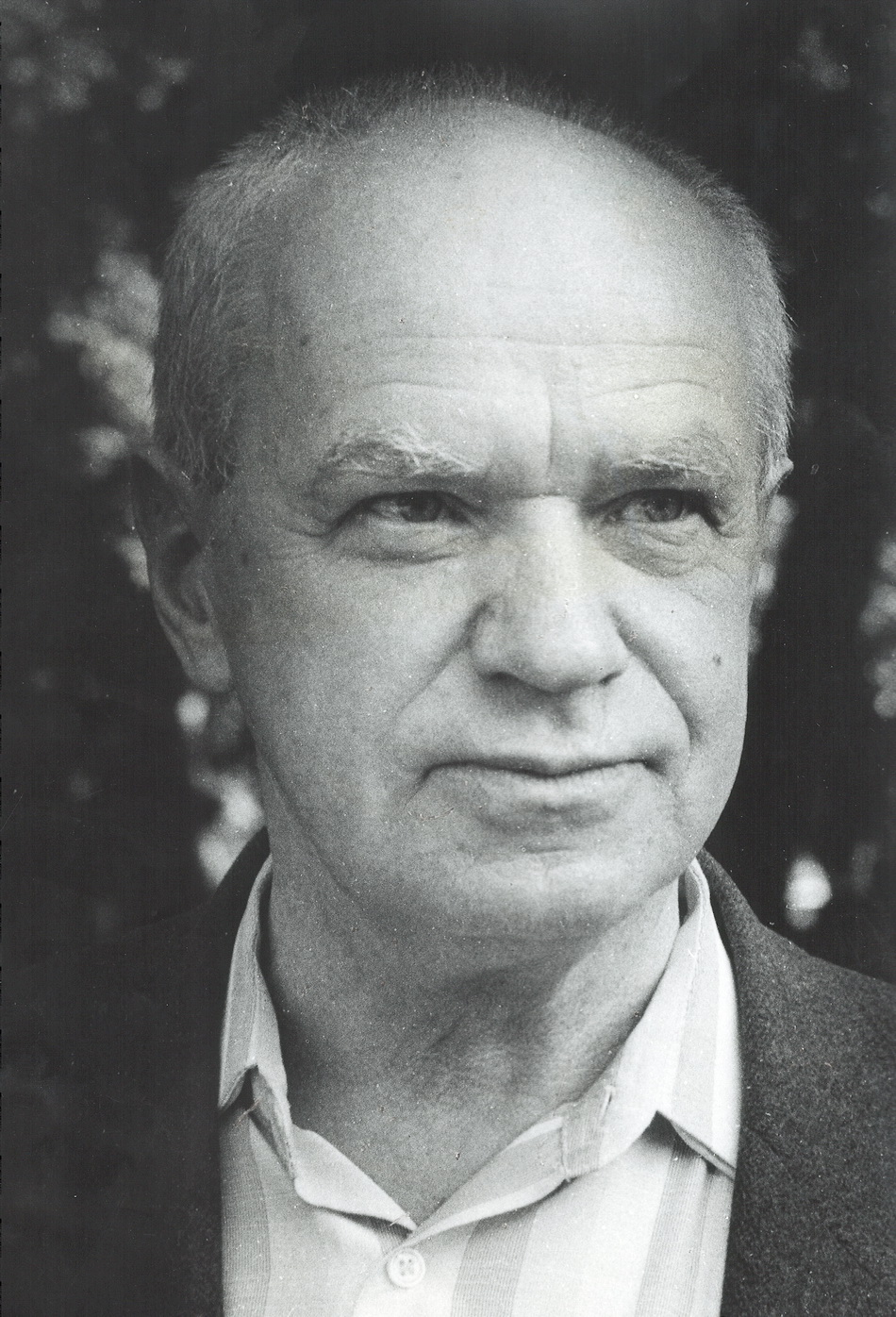СЛОБОДЧАНЕ
(рассказ)
Митьку Матрасова по-уличному заглазно зовут Быком. Увидит его издали соседка и говорит другой:
— Вон, Митька-Бык идёт, чемоданом машет!
— Понятно, — кивает та, — со смены возвращается чумазый…
Поравняется он с ними, поздоровается, начнутся расспросы:
— Как, Митенька, съездилось, чего новенького на дальней стороне увиделось?
Коротко расскажет, шутливо поинтересуется, чем они жили в его отсутствие, не видели ли его во снах, не вспоминали ли, потому что ему в пути икалось.
Нет ничего бычьего в Митькином обличье — мужик, как мужик: не мал, не велик, не молод, не стар и силёнок в меру. Глаза, правда, примечательные: карие с настороженным прищуром, и нос — картошка приляпистая с «глазками-бугорками» — того и гляди прорастёт на весеннем солнышке.
Прозвище носит недаром. Получил его за дурную привычку: прежде чем произнесёт слово, начинает малость сопеть, урчать, вертеть головой, словно освобождается от незримой верёвки, и лишь потом хрипасто, но членораздельно ответит на вопрос, или сам о чём-либо спросит, отмычав быком. Эта придумка улицы закрепилась за ним с детских лет. О прозвище своём Митька знает и, имея доброжелательный характер, не обижается, но не любит, когда с этим лезут напрямую. Он так прищурит свои глаза, что станет ясно — разговора не выйдет. Вернее, разговор дальше пойдёт руками…
Митька — паровозный кочегар. Он больше похож на чёрта, особенно зимой, когда издали хорошо заметна его фигура среди сугробов. При нём всегда небольшой железный ящичек, что чемодан, нужный в пути. Он же по нескольку дней не бывает дома. Всё в дороге и в дороге: чистит колосники, швыряет лопатой уголь из тендера в топку паровоза, или отбрасывает шлак. Домой со станции идёт весело, широко размахивая ящичком-чемоданчиком, словно вот-вот зашвырнёт его в ближайшие кусты.
Дома ставит его за дверь веранды, улыбаясь, входит в комнату и начинает приплясывать, а то и выделывать кренделя с присядкой. Его глухонемая сестра Татьяна — красивая девка на выданье — завидев брата, издаёт радостное мычание, похожее на смех. Вертится вокруг него, тоже пританцовывая, одновременно помогая ему снять верхнюю одежду, чёрную от копоти и сажи. Мать их — Степанида Захаровна, довольная зрелищем, спешит вытащить из сундука узелок с чистым бельём для бани.
Деповская баня неподалеку. Митька посещает её с удовольствием. К тому же она бесплатная для железнодорожников. Он долго мылится, трёт себя мочалкой, льёт шайку за шайкой горячую воду на своё расслабленное мускулистое тело. Мало того — идёт в парную и там, на верхней полке, долго, с кряхтением по-стариковски, будет охлопывать себя веником, пока хватит терпежа и дыха. Потом, вылив на себя шайку прохладной воды, спешит в раздевалку, чтобы чуть-чуть очахнуть на лавке. Как всегда знакомый банщик выплывет из клубов пара, осмотрит его и сделает замечание:
— Митя!.. Загривок-то не оттёр — чернота, да и за ушами поработал плохо, надо бы домыться…
— Спасибо, Иван Григорьевич, — скажет за подсказку и ошибётся.
— Обознался, дорогой! Иван завтра на смену выйдет, сегодня я — хозяин.
— Извини Петр Григорьевич, не рассмотрел, в пару ни хрена не видно…
А чего извиняться? Банщики похожи друг на друга, как две капли воды. Одни и те же телеса и мордасы. Два брата фронтовика с небольшой разницей в возрасте. Оба с протезами. Война оттяпала Петру Григорьевичу левую ногу, а Ивану Григорьевичу — правую. Поди, рассмотри в полумраке, кто из них кто? В баню в основном ходят жители Стрелецкой и Черкасской слобод. Банщики всех знают, работают без номерков, безошибочно выдают вещи помывшимся из деревянных клетушек-полок. Провожают слободчан на выход тепло. Каждому пожимают руку на прощанье, словно дорогим гостям.
После бани Митька, как всегда неторопливо, шагает к невзрачному домику с крылечком — «Закусочной». Нинка-продавщица в белом халате с замызганными рукавами, наброшенном поверх фуфайчонки, завидев его, заулыбается, затараторит, но Матрасов, лишь густо хмыкнет. Отвечать ей не будет — обождёт — человек из бани, понимать должна. Самое время наливать… Нинка, не закрывая рта, быстренько нальёт ему стакан «перцовки» или «зубровки». А он, с достоинством момента, употребит янтарную жидкость, зажуёт конфеткой, подождет нутряного тепла, чтобы потом поделиться им с кем-нибудь. Вот теперь, он в равновесии с целым миром, а это — самое нормальное состояние. Зря Нинка холостяка испытывает, всё равно на свою сторону не перетянет — серьёзности нет у неё…
Выйдет на крылечко, постоит, подождёт, пока телегу обгонит полуторка, и спустится на тропинку Черкасской слободы, вслед прошедшей какой-то старушки. Митька её знает — Вертикалиха, подруга его матери. Окликнет:
— Матвеевна, погоди, притормози! Шибко торопишься, давай помогу…
Вот и сегодня на его оклик остановилась, опустила наземь тяжелый мешок. Махонькая старушонка, хоть в рукавицу сажай, а тяговая сила — ещё та.
— Спасибочки, Митя, что распознал меня старую, а я прошла мимо, нераспознамши тебя. Вон ты, какой стал возмужавший, — жених! Цены нет. Таньку выдашь и сам женишься – детки пойдут, Степаниде – внучата. Радость прибавится…
Матрасов в это время одной рукой забрасывает себе за спину мешок:
— Пуда полтора будет. Зерно? Гляжу, идёшь, скочерёжилась. Дай, думаю, помогу!
— Подсоби, подсоби, он — нетяжёлый, коли уж так, по ходу сустретившись. Это я зернишко намела на элеваторе, курам. Не одним же воробьям его расклевывать. Там бегают мальцы с рогатками — того и гляди, бабке глаз выбьют!
— Серёжка твой обленился за зерном ходить, поди, опять голубей гоняет?
— Голубёв нет-ти, опустела крыша, я ж говорю — курам. Пораздал Серёжа своих сизарей, уехал учиться на лётчика. Посчитай, одна осталась в хате.
— Вот, те — на! Не знал, не знал, что на лётчика. Молоток! Первый раз слышу. Давно уехал?
— Намедни, пока ты паровозил.
— Ну, дела! На глазах парень вырос. В школу-то недавно ходил. Молоток Серега! Теперь, Матвеевна, он сам крылатым сизарём станет, не то что я: моюсь, моюсь, а всё в саже…
Идут, разговоры разговаривают о том, о сём. И донесёт Митька мешок до порога её дома, и повернёт к себе, но не пройдёт и ста шагов с остатками тепла, как увидит впереди, в пыльной траве, лежащего Тараса, в позе утробного младенца. Дом его — рукой подать, сразу за акацией, нет же, каждый раз Тарас норовит упасть на одном и том же месте. Что за привычка не дотягивать до собственной кровати? Растянулся, как напоказ, у края дороги. Нехорошо, надо сдать его Машке:
— Тарас, слышь, Тарас! Вставай, сучий кот, дом-то рядом, ну-ка!..
А в ответ летит нелицеприятное:
— Не тормоши, Бык, мои хрущёвские кости! Думаешь, я пьян? Ничуть! Не понимаешь ты ход моих мыслей…
Как-то зимой в давке за мукой у заводского магазина, Тарас вопил подобное: «Ой-ой, не дави-и-и, трещат мои родные хрущёвские косточки! Не дави-и-и!..» И полез по головам очереди к единственному окошечку, врезанному в дверь магазина, держа в зубах холстяной мешочек и двадцатипятирублевку с Ильичом. Шурок его за валенки поддерживал. Заводчане, как положено — обматюкали: куда прёшь?.. А он: «Моя очередь настала, вы что? Меня не узнаете? Смотрите!» Снял ушанку с головы, кинул её Шурку. Рассмеялся народ, уж больно схож Тарас с Первым — вылитый Хрущёв: и низенький, и толстенький, и лысый, и даже бородавка там же.
Вот и сейчас, воображает из себя белую кость — лежу, не трогайте!
Митька его в охапку. Дотащил кое-как эти кости с требухой до двери, стукнул в окно:
— Мария! Выходи, принимай ненаглядного живчика!
Но Маша не оценила такую доставку мужа на дом, выглянула из окна и завопила:
— А-а-а, чертов Бык, напоил мужика, а сам на ногах, ну, погоди!..
Митька ждать не будет. Что он, Машу-Бандитку не знает, эту красавицу? Любо-дорого посмотреть на неё, да веса в ней полтора центнера. Залепит — не очухаешься. Отошёл в сторонку на всякий случай. Издали смотрит, как Маша за шкирку поволокла Тараса во тьму дверного проёма на расправу. Ох, уж эта Маша-Бандитка, известная чуть ли не полгороду. В девичестве своём, однажды, когда к ней пристал похотливый армянин, так отдубасила его, что он лимоны бросил и убежал с базара. Потом, люди говорят, вышла замуж, но за другого армянина. Уехала с ним, а вернулась одна. И снова, прельщённая очередным южанином, укатила в горы. Опять вернулась одна. На этот раз переключилась на местных парней, захомутала Тараса. Уживутся ли? Или прибьёт муженька, не поняв направление его мысли…
Уже подходя к своей калитке, Митька подумал: странная эта Маша, ведь точно знала, когда выходила за Тараса, что все мужики в его роду беспотомственные. На что надеялась? Вот и живут, как мучаются.
Тарас, которого Митька сдал тепленьким Маше, работал токарем на заводе, но всё своё свободное время отдавал певчим птицам. Это была его страсть с детства. Без устали мастерил клетки, западни, плёл сетки для ловли. Особенно удавалась ему ловля чижей весной на удочку. В апреле чижи настолько беспечные, что чуть ли не сами подставляют шейки под волосяную петлю. Как правило, из пяти пойманных чижей, трое бывают задушенными. Тарас же вправе похвастаться: за все годы варварской ловли, нечаянно задушил лишь одного чижа — так наловчился легко снимать их с ветвей. А щеглов любил ловить сетью, края которой схватывал репьями по всему периметру рамы. Оставалось только ждать прилёта стайки, держа в руках верёвочку, замаскировавшись в бурьяне. Ловля сеткой требует терпения, как на рыбалке, зато результат лучше, чем ловля западней. Сеткой можно накрыть сразу несколько птах. Тарас их продавал, обменивал, дарил. В городе знал всех стоящих птицеловов, и его они знали. Ему не составляло труда помочь мальчишкам определить, кого они поймали в свои неказистые «хлопалки»: самку или самца? Понятно, что самка не поет и держать ее в неволе нет смысла — надо отпускать, выдрав напоследок хвост для опознания издали половой принадлежности. Тарас щеголихам хвосты никогда не рвал, жалел за красоту. Мальцам сердито внушал: «Бестолочи, не уродуйте птиц! Вам, кому-нибудь, к примеру, из задницы ногу вырвать — понравится?»
Иногда приглашал домой какого-нибудь заядлого подростка-птицелова, чтобы послушать любопытное коленце щегла или кенаря. До его женитьбы на Маше, Митька не раз бывал у него дома, слушал его певунов, понимая в них толк. Когда-то оба учились в одной «семилетке» и вместе ловили и держали птиц. У Тараса это увлечение затянулось, а Митька охладел к клеткам и держал только одного щегла.
С воцарением жены, прослушки чижей и щеглов в доме закончились. Многим друзьям Тараса не нравилось видеть её строгий внимательный взгляд. И Тарас время от времени запивал, растягиваясь на подступах к дому, а наутро, незаметно от жены, занимал рубль у соседки — Домны Павловны, чтобы по пути на завод забежать в «Закусочную». Жила Домна Павловна сразу за стеной — дом был на две половины. Домна была грозная старуха, дородная, как и Маша. К Тарасу благоволила: он ей-то электропроводку починит, то таз запаяет, то курице голову отрубит. Чего рубль не дать в долг? На его половину дома не заглядывала годами, а как-то зашла и увидела на стенах клетки с чижами, щеглами, юрками, чечётками, канарейками. Вытаращила глаза и ахнула:
— Господи, боже мой, что это такое?
— Птицы, птицы, Павловна, певчие…
— Пошто ж ты их неволишь, басурман этакий?
— Как пошто? — Тарас даже удивился. — Содержу для души…
— Для душ-и-и — ехидно протянула она. — А жена на что? Тебя бы посадить за прутья без божьего света — не песни бы пел — выл по-волчьи! Курица и то вольно по двору шастает, а ты таких крохотулек в теснотище держишь. Совести у тебя нет. Немедля выпусти! Не то больше на вино не получишь…
Ушла Домна Павловна расстроенная, забыв, зачем шла. Жизнь прожившая в деревне, и только после войны перебравшаяся с дочерями в город, и оставшись одна после их замужества, она не могла взять в толк, как взрослый мужик может заниматься такими пустяками?
И Тарасу невдомёк — с чего взъярилась соседка? Исстари в городе ловили и держали птиц. Какая же радость без них дома?
С грустью подумал: Павловна — серьёзная бабка, слов на ветер не бросает. Теперь до получки деньжат у неё не перехватишь, затаила обиду, а за что? Со временем узнает Тарас, что после её гневного ухода, она будет открыто называть его Чижом и постепенно приклеится к нему это птичье прозвище.
***
Время движется быстрее паровоза по незримым рельсам Вечного Пути, не делая нигде остановок, лишь мелькают годовые круги. Осень прошла, зима кончается, предвесенье, весна.
На высоком берегу Быстрой Сосны до позднего вечера толпятся горожане, всматриваются в зареченскую даль Беломестной, словно ожидают появления татарской конницы. Приходят многие, чтобы лично убедиться: река посинела, вздулась льдом, он начал трескаться, вот-вот стронется…
По центральному городскому бульвару оживлённое хождение. Так много жителей города собирается лишь в дни общих праздников или футбольных матчей. И вот уже передают друг другу весть — лёд пошёл!
Посмотреть на ледоход идут семьями, идут с друзьями и знакомыми, или просто влюблёнными парами. Идут горожане всех возрастов в силу вековой традиции, в силу извечной тяги русского человека к разбушевавшейся стихии. Заканчивается сон природы и начинается оживление — встряска души перед активным трудовым периодом.
Но вот лёд ушёл, содрав брёвна с пролётов моста, соединяющего Беломестную с городом. Тоже самое он проделал с мостами через Ливенку. Заливенская часть оказалась отрезанной от остальных, и начинается лодочное сообщение. Остатки льда белеют по берегам — сочатся в окружении грязи. Дымятся костры, жгут мальчишки прошлогоднюю траву, подсохшую на солнечных буграх. Обнажения девонского камня на крутом склоне берега Сосны точат упорно последние ручейки, а чуть выше между подпалинами старой травы уже видны зелёные пятна молодой поросли. В городском саду оглушительно орут грачи, сталкивая друг друга с ветвей, и никак не могут угнездиться.
Вот и последний день Великого поста. К единственной, уцелевшей от войн Сергиевской церкви потянулись верующие со всех окрестных мест с белыми узелочками, в которых аккуратно завернуты куличи и крашенные яйца. Несут бережно, как самое дорогое, что у них осталось. Идут и идут. Шествие это в основном пожилое, женское, но неудержимое, как ледоход.
В этот день Митька-Бык прошёл мимо закусочной после очередной банной помывки — недосуг, ждут его соседи: Илюнчик с Шурком. Им предстоит в его палисаднике сделать круговину для катания яиц на Пасху. День светоносный, золотистоголовый, зелёнокудрый, с голубовато-стальными метёлками полыни вдоль широкого большака Черкасской слободы, с пылью больших изумрудных лопухов, с густым серебром окрестных одуванчиков.
Митьке до дома рукой подать, так нет же, не дают добраться, бегут навстречу две знакомые тётки — слободчанки, машут руками, просят возбуждённые:
— Митенька, дорогой, помоги, растащи дураков окаянных… Бьются, не знамо за что, до крови! Окна друг-другу поколотили, народ собрался, глазеет, а толку никакого… Ну, что ты сопишь? Поспеши!
— Кто сцепился, с кем? — наконец вопрошает Митька.
— Афанасьев с Лаптевым — шофера с автобазы.
— Г-г-м-м… Ну их, — бугаи известные, самому наложат по первое число…
— На ногах еле стоят, нажрались…
Не хочется, а куда деваться — надо идти. Оно конечно: «двое дерутся — третий не мешайся», но женщины просят, придётся взглянуть…
И вправду дерутся. Оба разукрашены фонарями подглазными, из носов красная жижка сочится. Распаренные, как в бане, ходят кругами друг за другом, тяжело дыша, чувствуется, что руки у них вялые. Им бы разойтись, да гордыня не позволяет, несмотря на обступивший их увещательный народ. В основном собрались бабы и ребятишки, а серьёзных мужиков никого. Завидев Матрасова, махонькая Вертикалиха оживилась:
— Давно такого не было, Митя, ни стыда ни совести у них. На Страстную наделю лупцуются, да ещё у детей на виду! Ах, пьянчужники-безобразники, ах, неукоротники! Как же так можно, а?
Митька густо засопел, замычал, набычился, пробираясь через круг к дерущимся, и вдруг разом грозно рявкнул:
— Отставить! Боевая ничья!
— Отойди, Бык, врежу, — неуверенно обещает Лаптев.
— На ничью не согласен? — спросил Митька у Афанасьева.
— Отметелю! — определённо бросил тот и замахнулся…
Только кто ж ему позволит? Митька его реакцию предвидел, отклонился от вялого выброса руки, дал подножку. Повалился снопом боец. Тут же Митька толчком головы двинул Лаптева, на лежащего. Оба не успели сообразить, что произошло, — как лежат беспомощно на земле, копаются, как жуки перевёрнутые, пытаясь найти опору. Два отмучившихся здоровяка дают увязать себя верёвками, невесть откуда приготовленными. Общими усилиями потащили их на отсыпку по домам, а перед этим они для вида попытались освободиться от пут. Митьку-Быка обматерили, пообещали прибить.
Интересно с чего завелись дружки-бугаи? Митька не раз видел, как в пивной они терпеливо стоят в очереди, не лезут нахрапом вперёд, как некоторые, отсидевшие своё, урки. При этих шоферах никто свои права не качает, не то — без слов, за шкирку и на свежий воздух! Хоть ты трижды блатной — значения не имеет. Оба, конечно, подраться могут спьяну, но чтобы друг с другом? Что-то не помнится…
На станции Митька иногда узнавал их в кабинах грузовиков среди гор паровозного шлака. Скапливалось его много, а стоил копейки. Можно сказать, бери бесплатно — не успевают очищаться от него паровозы. Шлак да известь — вот и всё, что надо для постройки коробки дома. Из этого материала, считай, после войны третью часть города возвели. Впору только за это паровозным кочегарам памятник поставить. В топку уголь, а из-под — шлак. День и ночь, руками своими, а морда — чёрная…
Взгрустнулось Митьке. Лаптев с Афанасьевым хоть в войне поучаствовали, правда, в конце её. Три месяца снаряды на фронте возили, а он по малолетству на паровоз попал. Только и видел разбитые станции от Москвы до Харькова. Серёга-голубевод на лётчика уехал учиться. Может, себе пойти — на машиниста? Нет, опоздал: дом, огород, мать, Татьяна…
— Долго парился! — весело встретили его друзья.
Пока Митька банился, да усмирял пьяных, в его палисаднике уже шла подготовительная работа: Шурок сгрёб мусор, очистил площадку от сохлой травы. Илюнчик ладил над площадкой навес из отходов пиломатериалов и кусков рубероида. Навес они всегда делали на случай дождя.
Главную работу только начали. Митька определил центр, воткнул штырь, и кружалом начертил на земле круг полутораметрового диаметра. На штык лопаты принялись выбирать грунт, вынося его подальше от места игры. Дно круговины выровняли и уплотнили, чтобы не было раковинок и комочков земли. Тут требовалась особая тщательность. Илюнчик своим плотницким уровнем выверил дно. Нормально. Потом сделали наклонный врез и установили разгонную доску с желобком. Посидели, покурили, обсудили угол наклона доски. Эта доска с отполированным жолобком для скатывания яиц служила им не один год, и хранилась в сарае от игры до игры. Её установить надо с нужным наклоном, добиваясь скатывания яйца с ускорением, без подскоков при вхождении в круговину. Потом надо проверить прокат его на вираже, нет ли помех, вызывающих тряску гонка.
Убедившись в хорошем разгоне и прокате, Митька напоследок сухим гусиным крылом вымел соринки и прикрыл круговину жестью до утра.
***
Наутро Пасха — Светлое Христово Воскресение.
Митька успел похристосываться с матерью и сестрой. Степанида Захаровна нашла за иконой прошлогоднее крашеное яйцо и подставила сыну — стукни-ка! Тюкнул новым, освящённым накануне. Оно выдержало удар. Положила мать его за икону до следующей Пасхи, а треснувшее старое отложила на подоконник. Потом рассмотрит, оставить ли себе, либо курам раскрошить. Так у них повелось с того времени, когда был ещё жив хозяин.
Сели в радостном настроении за стол. Разговение начали с кутьи. Митька разлил водку по стопкам. Почокались семейно: «Христос воскрес!» — как же без этого? Митька, в отличие от матери и Татьяны не постился, не говел, не видел связи между пищей и верой, как и его погибший на войне отец. Из православных праздников он знал основные: Рождество, Крещение и Пасху. С Красной горкой и то путался, забывал день. На Красную — тоже надо катать яйца. Это он перенял от отца.
Сестра с матерью лишь пригубили вино — здоровье не позволяет. Митька на пальцах показал сестре: «выпей чуть-чуть».
— Ны-ы-ы! — в ответ.
— Кум с воза — кобыле легче!
Налил себе вторую, потянулся за картофелиной и куском курицы…
А на Степаниду Захаровну нашло не светлое настроение.
— Господи! — шепчет губами, чуть не вслух. — За что такая судьба? Сидел бы Антон рядом, радовался на детей, нет — война приключилась. Ушёл, как не было. За какие грехи твоя любимица стала глухонемой? Кто замуж возьмёт? Заглядываются парни, да отваливают. Правда, один молодой без ноги, утрёпывает за ней настойчиво. А толку? Таньке видно не люб, а Митька молчит, не поймешь на чьей стороне. Я бы не возражала, пусть ходит, может, добьётся своего упорничеством. Господи…
Митька поднялся из-за стола.
— Насытился! Спасибо. Вы сидите, а мне надо Илюху проведать с Шуркой. Потороплю их. Меня, если кто из игроков придёт, пусть подождут. Я ненадолго…
Шлаковая неоштукатуренная хатенка Ильи издали торчала во рту улицы, как темный зуб. Илья возвёл её после войны на месте старого фундамента, а дом его в 1942 году «языком слизала немецкая крылатая корова», по выражению его жены Веры. Она с дочкой в это время находились в каменном погребе соседки-подруги. Немецкие лётчики частенько кидали бомбы на станцию, а попадали в дома, прилегающие к ней. Вернувшись с фронта, он, где только мог, собирал материал: по камешку-кирпичику, по досточке и брёвнушку, но так до конца не достроил начатый дом. Илья — и плотник, и столяр, и на все руки мастер. Ему заказы по столярке идут бесперебойно, а свою хатку доделать не хватает времени. Лицом цыганистый, но характер не взрывной — славянский, спокойный, уступчивый. Илья — молчун с бородавкой на правом верхнем веке. Глаз от этого непрерывно помаргивает, не поймёшь, то ли Илья одобряет собеседника, то ли наоборот. Зато его Вера — сущая трещотка, большая любопытница ко всему на свете, и энергичная на разные начинания. В округе её ласково называют Верунчиком, а мужа заодно — Илюнчиком. Часто говорят: «Верунчик и Илюнчик — два сапога-пара». На работу и с работы шагают вместе. Илья работает на заводе в столярке, а Вера в токарке наладчицей станков. Своё дело знает лучше мужиков — война научила.
Илья уже ждал Митьку на пороге дома. Верунчик с дочерью ушли одаривать многочисленных крестников пирожками и конфетами.
Приятели разом отправились к Шурку, чтобы оторвать его от стола. Дом Шурка, такой же неказистый, как и дом Ильи, скрывался под густыми ракитами, и вдобавок окружался заборами, заборчиками, сарайчиками, калиточками, так, что сразу двери не найдёшь. Шурок с Нюрой, детьми и тёщей жили по-крестьянски. Хозяйской живности во дворе полно: куры, утки, кролики, свинья, собака. Не успел Илья открыть калитку, как загавкал пёс, и тут же рябенький петух шустро вскочил на плечи столяра. Но не опешил он, а мгновенно сбросил с плеч петуха, отшвырнул ногой прочь:
— Как Шурок терпит этого бандюгу? Я-то к нему привык, а зайдёт малец? Глаз же ему выклюет! Петуху в суп пора…
В комнатёнке за столом семья заканчивала завтрак. Над скоблёным столом висел в деревянной рамке усатый вождь, направляя свой заинтересованный взгляд в сторону угла с лампадой — в иконный лик Николая Чудотворца. Под образом стояла ножная зингеровская швейная машина — богатство тёщи и жены — постоянный объект интереса фининспекторов. В подвесной люльке посапывала последняя дочка, а две других уплетали за столом холодец.
Вечно улыбающийся Шурок предложил друзьям выпить, но Митька решительно воспротивился:
— Давай без этого, день только начинается, успеется!
Тёща поддержала Митьку, завидев суету невестки:
— Не по-людски, хоть и праздник, нажираться с утра…
Ещё еле оторвали Шурка от стола, подождали, пока он искал свою плетёнку с раскрашенными яйцами для игры. Прижимистая Нюра в это время наблюдала, не засунет ли он в неё бутылку? Наблюдение продолжала до самой калитки. Шурок, в чём сидел за столом, в том и вышел. Друзья в свитерах поверх рубах, а он — во фланелевой навыпуск. Дни весногонные, и хотя солнечные, но всё же зябко без поддёвок. Шурок хил телом, но никогда не кутается, даже зимой — грудь нараспашку. У жены с тёщей — сирота сиротой, ходит обтрёпанный, но этого не замечает, улыбается, как блажной. Друзья знают — не блажной, а с кучей медалей за взятие разных городов. Хлебнул горюшка предостаточно, и работает в горячем цеху, откуда через год-другой уходят даже здоровые мужики, а он всё ещё трудится. Правда, к концу недели не добирается до дома, спьяну заваливается в кусты отсыпаться. В этом он не уступает Тарасу.
Возле Митькиного палисадника уже топчется в валенках Игнат Иванович, ожидая хозяина. Этого деда Митька недолюбливал за отстрел собак. Дом его в конце улицы над оврагом. Местные бродячие собаки нередко искали в овраге отбросы и рыскали по огороду деда. Он, как видел собак, так прямо с крыльца палил в них из двустволки. Говорили, потом выделывал собачьи шкуры и шил шапки на продажу. Митька не раз корил его:
— Тебе, что — зайцев мало? Всю зиму ходишь по посадкам, высматриваешь и добываешь их, нет же, на псов перешёл, помешали тебе чем-то?..
— Кому жалко псов, пусть их на привязи держит. Через овраг коротким путём ребятишки в школу ходят и из школы возвращаются. Кобелюги дичают от голода, мало ли что может случиться? Закусают или напугают! — парировал он.
Валенки Игнат Иванович до жары не снимает — ревматизм. На голове сегодня картуза нет. Треплет апрельский ветерок на макушке хохолок седых его волос: ни дать, ни взять — полководец Суворов. И Тарас пришёл, греет хрущёвскую лысину, а лицом что-то хмурый.
Несколько соседок с детворой в палисаднике, как в прошлом году, тоже ждут начала игры.
Расселись игроки на табуретках, придвинув каждый к себе сумки с крашеными яйцами. Зрителям отведено место на завалинке и за палисадником, чтоб не мешали, не сыпали соринки в круговину. Матрасов взял красное яйцо, показал его игрокам:
— Всем видно? Пускаю…
С жёлоба оно с ускорением вошло в круг, прижимаясь к земляным стенкам круговины, прокатилось по полному кругу, завернулось спирально, и остановилось.
— Как видите, катится без фокусов. Начнём? — предложил он.
Кивнули, приготавливая своих гонков. Митька напомнил правила игры. Правило основное — не лезь со своими правилами, они давно отработаны. Гонок запрещается подталкивать руками. Поставил его на разгонную доску в желобок — убирай руку. А как его ставить, тупым концом к себе или острым — дело твоё. С какой высоты запускать — тоже твоё дело: хоть с начала доски, хоть с середины и ниже. Яйца должны быть только куриные, а не гусиные, индюшачьи, и прочей птицы. И потом: сумел твой гонок чужой тюкнуть — забирай его, не важно чья скорлупа повредилась, или обе целыми оказались. Следующий ход твой, а теряешь его тогда, когда твой гонок пробежал впустую. Засчитывается первый тюк, второй при отскоке — нет. Обычно споры возникают при вовлечении в игру малознакомых, желающих поучаствовать в катании на чужой территории. Митька им сразу говорит: «Правила наши, а яйца — ваши. Не нравится — не играй!».
Пока начали игру впятером.
— По-старшинству, — предлагает Шурок. — Гони, Игнат Иванович!
Пошла игра. Первые прогоны гонков идут формально, круговина ещё пуста, но вот набежало в неё с полдюжины разноцветных яиц-гонков, и луковый посланец Шурка, отскочив от земляного бортика пошёл в центр круговины, тюкнул светло-коричневое яйцо:
— Мой, долгожданный!
— Забирай и гони дальше! — командует Матрасов.
Запускает Шурок, но на этот раз безрезультатно.
Катают мужики деловито с попеременным успехом. В круговине уже достаточно неподвижных гонков. Теперь игра обострится, гонки при нескольких пробегах начнут терять скорлуповую крепость, выходить из строя и отправляться, как негодные в корзины. Станет виднее, чья берёт. Игроки знают цвет своих гонков: у Митьки — красный, у Шурка — луковый, у Ильи — коричневый, у Тараса — голубой и синий, у Игната Ивановича — пёстрые. Так они решили накануне.
Николай-инвалид подошёл к палисаднику. Поздоровался, стоит, высматривает Татьяну. Нога, с детства сухая, покоится на выступе костыля. Он с ним ходит быстро, легко. На вид мальчишка, а на самом деле ему — под тридцать. Работает часовщиком. На Митькиной улице многие знают его жениховское увлечение Татьяной.
У Тараса на лысине бисерки-испарины, во рту сухота. Оторваться хочет от игры. Обрадовался приходу Николая, просит за него поиграть. Получив согласие, побрёл — понурый. На пути, у завалинки, Домна Павловна сидит на скамеечке. Ноги, как брёвна, вытянула в шерстяных чулках, на Тараса косится, чтобы не перешагнул.
— С праздничком, Павловна, — вежливо говорит он, обходя её ножищи.
— И тебя, Чижик, с Пасхой, хотя ты нехристь… Птиц-то выпустил?
— Э-к-к, хватилась! На Благовещенье клетки распахнул, одни кенари остались.
— А энтих што?
— Комнатные, не для воли.
— Молодец, коли так…
Тарас метит в двери Митькиного дома, за ним — Татьяна, уже понявшая, что ему плохо. Налила стопку, сочувственно смотрит, как Тарас, морщась, берёт и опрокидывает её в рот. Огурец подаёт и жестом на дверь выпровождает. Пожёвывая солёный огурец он успевает заметить на стене клетку с щеглом. Удивлённый подумал: «Гляди-ко, Бык не выпускает его второй год, а мне говорил, что одни куры остались».
Игра оживилась. Митьке начинает везти. Его вызывающе красный гонок успел расколошматить несколько чужих, и всё ещё цел. Идут разговоры зрителей:
— Каждый год обыгрывает всех. Видать, яйца умеет отбирать…
— У хорошего гонка носик должен быть востренький, сморщенный!
— Чепуха! Стукаются боками, а не носиками…
— За курами уход требуется особый. Небось, он подсыпает им что-то, оттого у яиц скорлупа прочная. А что подсыпает, разве узнаешь?
У Матрасова красный гонок, наконец, угомонился — обошёл других, не задев их, затих в центре круговины. Очередь за Игнатом Ивановичем. Роется он неспешно в сумке, выбирает среди пестроты своей нужный гонок, откладывает, потом ищет другой. Шурку невтерпёж:
— Неживой ты, дед, заснуть можно!
— Поспи, Сашок, поспи, будет твой черёд — разбужу.
Митька тоже медляков не любит, но молчит. Под себя других не подстроишь, да и куда торопиться — вечер впереди.
Шурку же хочется последовать Тарасову примеру. Он тоже собирается на своё место временно посадить Николая, опять стоящего у палисадника. Илья это замечает.
— Куда потащишься? Бутылка у меня в сумке. Возьми, отойди в сторонку, хлебни и сразу сюда. Оставь Коляшу в покое, не затем парень пришёл сюда…
Митьке не нравятся разговоры о выпивке раньше срока.
— Взворковались… Попозже нельзя?
— Пока бабы соорганизуются, это ж, сколько пройдёт? — замечает Шурок.
Он в сторонку не отошёл, а на месте откупорил бутылку.
— Кому влить?
— Лакай, нам не к спеху, — повернулся к нему Игнат Иванович.
А в это время Митька мастерство показывает. Вот он вынимает из корзины новый красный гонок, на зуб пробует тюканьем — крепкий. Объявляет во всеуслышание:
— Сейчас этим вертуном возьму… вон то, тёмнолуковое!
И показывает, какое именно. Ставит вертуна на две трети доски. Покатилось яйцо вниз, выделывая странные петли вокруг неподвижных яиц, а потом оттолкнулось от бортика круговины, развернулось — и, надо же, — взапрямь толкнуло тёмнолуковое!
— Видел, чижик-пыжик, как надо играть! — подмигнул Митька Тарасу. — Учись, пока я жив… А я вертуном своим возьму сейчас опять Шурковое, салатовое…
Как сказал, так и вышло: тюкнул его вертун салатовое у всех на виду. Забрал добычу под притихший шумок зрителей.
— Везёт! — вздохнул Игнат Иванович. — А попробуй-ка угадать в третий раз! Признаю, что нет тебе равных среди нас…
Матрасов внимательно окинул взглядом яйцевой расклад в круговине. Что-то прикинул в уме. Смотрит на игроков, потом опять вниз и на доску с жёлобом. Наконец, решается:
— Тихо! Вы не поверите, но вон то — последнее, слева от центра на дорожке, крапчатое — моё!
Мать честная! Как это у него выходит? Поставил на полдоски гонка-вертуна, и он покатился ровненько, не выписывая петли, и в аккурат стукнул крапчатое яйцо. Между прочим, — заказчика угада, Игнат Ивановича. Взял Тарас Митькиного вертуна в руки, смотрит, ничего не понимает: яйцо как яйцо, разве что форма малость странная. Глаз токаря видит в нём разнобокость и чуть смещённый «носик». Митька рад, что смутил и посрамил игроков. Притихли они, не знают что сказать, а Тарас вдруг выпалил:
— Бык, а это у тебя не спорыш?
— Какой ещё спорыш? — недоуменно спрашивает и нахмуривается Митька. — Ты о чём, Чиж?
— У деда спроси, или у Домны Павловны, если не знаешь!
Игнат Иванович тут же важно поясняет:
— Бывает такое. Это когда петух снесёт яйцо, а курица высидит не цыплёнка, а василиска. Беды жди от него!
Илюнчик радостно вскинул цыганистые брови:
— Шурок, иди сюда! Смотри, твоего петуха работа. Тебе давно говорили, оторви ему голову! Это же он пробрался в Митькин сарай и отложил вертуна. Твой огород как раз к его примыкает…
Шурок, успевший приложиться к бутылке, подходит, улыбаясь во весь рот, и говорит Матрасову:
— Антонович! Что же получается? Сам говорил: играем только куриными, а выставил петушиное. Доказывай, что не так!
— Мужики! Вы что, серьёзно? — Митька обвёл их взглядом, оглянулся на зрителей. — Какие петушиные? Дед для понта сказал, а вы рады стараться — спорыш! Петухи пошли у вас нестись, застрекотали языками. Играть надо уметь!
— Если не веришь, спроси у знающих! — возразил Шурок. — Домна — человек сельский, врать не будет, прояснит.
— Пална! Домна Пална! — зовёт он задремавшую на солнышке старуху. — Подойди.
Услышала, нехотя подошла с завалинки.
— Вопрос имеем. Разреши. Ответь, петух яйца может нести? — спрашивает Шурок.
— Ты же носишь, а он, что — в карман кладёт?
Хохот.
— Не поняла ты! Вот это красное, говорят, петушиное. Из него выходит какой-то василиск. Может такое быть? — Митька суёт ей вертуна.
— Тьфу! Убери гадость! — морщится Домна Павловна. — Вспомнил про нечистую силу на Пасху, прости, Господи…
— Нет, ты ответь, бывают ли петушиные?
— Возьми, да расколошмать, — советует посредница. — Ежель желточное сплошь, да с дурным запахом, стало быть сносок — змеиный оборотень. Сжечь такого на огне и вся недолга!
— Слыхал? — радуется Тарас. — Разбивай, Бык, яйцо и показывай начинку! Ход мыслей не понимаешь?…
Жалко Митьке хорошего гонка, да начальная шутка обернулась серьёзом — как в капкан залетел. В сердцах стукнул яйцом об скамейку, сковырнул скорлупу:
— На, Чиж, нюхай, баламут!
Тарас нюхнул и передал Шурку.
— Нормальное! — изрёк тот и откусил половинку. — Гореть василиску в брюхе!
Игра возобновилась, но Митькино победное шествие прервалось. Везти стало меньше, зато другие заиграли внимательнее, посылая гонки с разной высоты разгонной доски. Шурка развезло, потянуло на разговоры. Он окончательно усадил на своё место Николая-инвалида и отошёл к женщинам. Они уже накрывали два больших стола белой простынёю, громоздили на них тарелки с закусками, тащили лавки в сад. Степанида Захаровна не собиралась устраивать общее застолье, но пришедшая из города Верунчик, поглазела на игру мужиков и тут же начала распоряжаться:
— Ну-ка, бабы, тащите из домов кто что может. Небось, наготовили всего. Не скупердяйничайте, устроим себе веселье праздничное. Дело к обеду идёт! Пошевеливайтесь! Мужиков кормить пора…
К палисаднику тем временем подъехали на велосипедах два брата: Петр Григорьевич и Иван Григорьевич. Умудряются они каким-то образом ездить на своих машинах, вращая педаль одной ногой. Костыли приторочены к рамам.
— Привет честной компании! — здороваются они, приставляя велосипеды к забору и высвобождаясь из велосипедов. Сообщают:
— На Выгонке тоже ребята катают, на лугу меж домами…
— У них понятия не те, — отзывается Игнат Иванович, — полтинники берут за выигрыши. Это же не лото. Удумали в праздник такой — на деньги!
Банщики костыли отвязали, сумки с крашенными яйцами сняли с багажников. Подвинулись игроки, брёвнышко притащил Илюнчик из сарая. Фронтовики — свои игроки, порядок знают. Сразу вошли в суть катания: кто за кем, кому меньше всего везёт, кто готов вылететь из игры? На вылет готов Николай, он больше поглядывал на Татьяну, чем в круговину. Шурок тоже — на вылет. У него остался один гонок.
Веселее стало. Братья известные анекдотчики: один закончит — другой подхватит в продолжение темы, переходя на смежную. Конца и края темам нет. Игра игрой, а смех-смехом. У Шурка — рот до ушей. Илюнчик беззвучно — животом трясется от смеха, Тарас хихикает, на Домну посматривает. Не услыхала бы непристойности, не то вмиг устыдит, угомонит разошедшихся рассказчиков. Не слышит Домна Павловна, дремлет. Другие женщины заняты хлопотами в саду. Митька доволен. Опять ему везет. Смех у него басистый, короткий, для поддержания общего настроения. Он эти анекдоты не раз слышал в бане. А вот Игнат Иванович смеётся лишь временами. Скабрёзные шутки-прибаутки пропускает мимо ушей, приговаривая:
— Ну и безбожники, ну и язычники! Гореть вам в аду синим пламенем…
Прохожие заглядывают вглубь палисадника с любопытством. Их привлекает игра, задерживаются, смотрят, что получается. Неожиданно Лаптев с Афанасьевым пожаловали, Митьку окликнули.
«Чего им нужно? — думает он. — Нашли когда припереться…»
Нехотя оставил палисадник, пробрался через толпу ребятишек.
— Ну, что надо?
— Ты, это… — Афанасьев говорит, протягивая ему руку поздороваться, а другой рукой картузом прикрывает подбитый глаз. — Не подумай что зря, мы пришли по делу…
Лаптев издали кивнул Матрасову, как старому знакомому. Синяк подглазный у него заметно пожелтел.
— Коли по делу, зайдем в хату, — приглашает Матрасов. — Шумно здесь.
На ходу Афанасьев смущённо бормочет:
— Ты извини, мы давеча с Иваном малость повздорили… Ты правильно влез в это дело. Сам знаешь участкового. Служака! Нары нам были бы обеспечены — к этому шло и продвигалось.
— Ни хрена себе повздорили! — Митька хмыкнул удивлённо. — Бой затеяли по всем правилам! С чего раскипятились-то?
Они вошли в комнату, Матрасов предложил им сесть, а сам полез в синий буфет за бутылкой.
— Спьяну, привиделось мне, что Надька Козлова сидит в хате, у Лаптя, а до этого она у меня месяц жила. Дёрнул дверь — заперта изнутри, ну я по окнам дрыном прошёлся. Потом только выяснилось, что Надька у матери своей ошивалась три дня…
— Пустяковая деваха! — подал голос Лаптев. — Нашёл себе заботу: Надьку караулить! Стану я с ней заниматься…
— По сто грамм в честь праздника и мира? — Митька поставил бутылку и стаканы на стол. Оба шофера разом замотали головами, а Лаптев пояснил:
— Ни грамма! — завтра, рано утром в рейс. Пришли по делу. У тебя есть друг столяр и стекольщик?
Матрасов подошёл к окну, показал:
— Вон, в фуфайке, кучерявый. Ильёй зовут. Классный столяр, и стекло режет точно.
— Ему надо объяснять, что да как, а ты в курсе нашей драки: окна побиты, рамы выломаны… — Афанасьев снял картуз и опять надел. — Тебе Лапоть даст ключи, а мои у Надьки, она тебя знает, утром занесёт. Ты попроси Илью застеклить и рамы исправить. Работать можно в любое время. Старики наши уехали в деревню, не скоро вернутся. Не хочется, чтобы они видели безобразие. За работу мы заплатим, не сомневайся.
— Ладно, порешили, — понял Митька, — никакой платы, а вот хорошего речного песка у Илюнчика нет. Хата его стоит обшарпанная! Давно он собирается оштукатурить, да песка нет. Пару машин достаточно…
— Какой разговор? Покажешь его дом, и через неделю ссыплем!
Татьяна зашла, косясь на Лаптева с Афанасьевым. Приметила синяки у них под глазами. Зашла как бы случайно за посудой. Погремела и вышла. Митькин щегол коленце выдал в наступившей тишине.
— Хороша у тебя сеструха, — заметил Лаптев и добавил, ни к селу, ни к городу:
— Жаль щегла не слышит…
— Она, Иван, чует пение лучше нашего, — вздохнул Митька. — Из-за неё держу, выпускать поздно, одомашился.
Добавил, чтобы закончить разговор:
— У нас в палисаднике игра идёт по старинке. Желание есть поиграть?
— Нет, нет, машины надо готовить в рейс, надолго уезжаем…
Грачи расшумелись на ясенях, кленах и дубах в старом саду заводского сада. Забор его как раз напротив Митькиного дома. Улица-то — однорядная. Вдоль забора по тропинке почти никто не ходит в апреле, опасаясь обильных грачиных «каплей». Идут и идут прохожие мимо Митькиного палисадника.
На фоне голубого неба вьётся слабослюдяной дымок из высокой трубы спиртзавода. Оттуда ветерок иногда доносит едкий запах барды. Митькина улица оглашается не только грачами, но и долгими лязгами вагонных буферов, гудками паровозов.
Игрокам звуки привычны, не замечают их. Скорее удивились бы, если бы вдруг они смолкли.
Прерывается игра на обед. Она будет продолжена после него до глубокого вечера, когда под устроенным навесом над круговиной зажжется электролампочка. Потом крутовину забросят и восстановят ещё раз на Красную горку.
Хорошо сидят соседи за общим длинным столом. Лица светлеют. Нахваливают: то сало с чесноком и горчицей, то розовую картошку в мундире, то винегрет, то холодец. Оттерпелись слободчане за годы войны, и первые послевоенные. Светлеют души, несмотря на неустроенность быта. Восстанавливают разворошенное. Что ни день — прочнее становятся на ноги.
Татьяну посадили рядом с Николаем и Митькой. Она изредка показывает Николаю рукой: «ешь, мол, нечего на меня смотреть». Вторую руку держит у брата на плече, время от времени подкладывает ему в тарелку солёные огурцы, помидоры…
Митька улыбается, незаметно отправляет их вилкой часовщику. Идет что-то вроде игры.
Верунчик запела, и подхватили разом: «По берлинской мостовой кони шли на водопой. Шли, потряхивая гривы, кони-дончаки… Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки». Потом пошли: «Тёмная ночь», «Огонёк» и Митькина любимая — «Степь, да степь кругом»…
Задушевные песни трогают Игната Ивановича, и вот уже посылает он племянника за самоваром, чтобы, значит, под вечер сообща пить чай в саду на свежем воздухе.
Отвели души песнями и вновь игроки расселись у круговины. Последние катальщики на окраине древнего русского города.