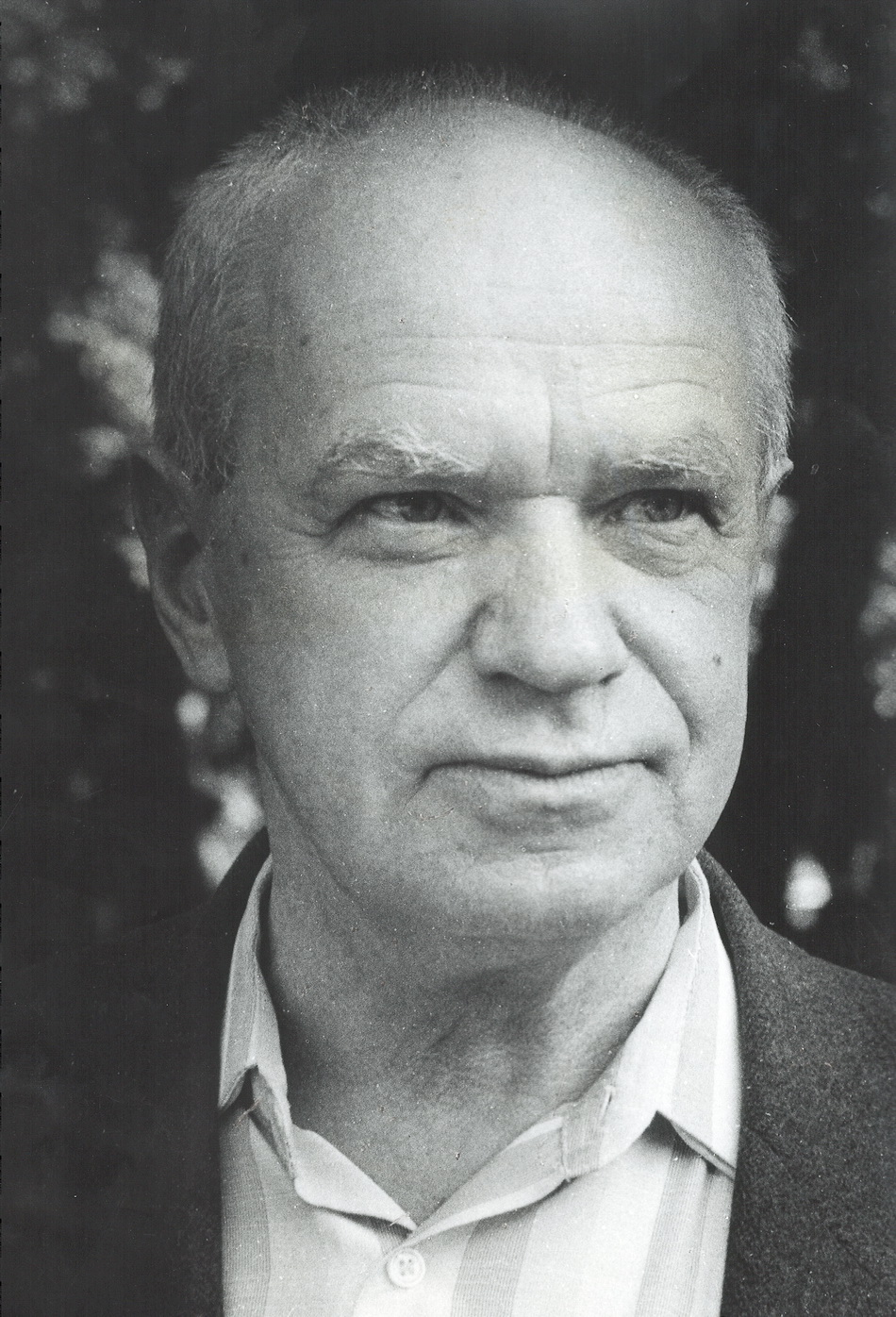Публикуем произведения лауреатов XII Всероссийского молодёжного литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник»
ПРОЗА:
Евгений ТОЛМАЧЁВ (п. Ракитное, Белгородская область)
Марина СТЕПАНОВА (г. Самара)
Алексей ШУПИКОВ (г. Брянск)
ПОЭЗИЯ:
Екатерина ГОДВЕР (г. Москва)
Елизавета ЕВСТИГНЕЕВА (г. Москва)
Яна ЦЫГАНКОВА (г. Воронеж)
СКАЗКИ:
Виктория БУРЧАК (г. Минск)
Виктория БЕЛЯЕВА (г. Ростов-на-Дону)
Анастасия ХАЧАТУРОВА (г. Москва)
ПРОЗА
ВИТЮША
Жил Витюша бобылём. Встречаются на белом свете люди, которым судьба со всех сторон вставила клинья, – ни здоровья, ни таланта, ни хитрости, чтобы устроиться сыто и удобно в жизни. Только живи и терпи все невзгоды, покуда хребет не треснет… Его мать умерла давно. Это была, пожалуй, единственная женщина, которая относилась к нему с любовью и состраданием. Витюша поздно научился говорить, и то с матюков начал. В деревне рассказывали, что когда крестили его лет в шесть, то он испуганно кричал на изумлённого подвыпившего попа:
– Сволочь, утопишь!
Лет до сорока жил Витюша вдвоём с отцом, Афанасием Гаврилычем, бывшим продавцом сельмага, известным по молодости жадностью: прятал в сарае в слежавшееся сено банки с тушёнкой и ивасями, чтобы жене и детям не достались. А когда умерла жена, прозрел, осознав ответственность за судьбу неблагополучного младшего сына. Старшие-то дети давно разъехались, жили в городе. Афанасий Гаврилыч придумал себе занятие на старости – взялся писать историю колхоза, который развалился лет десять назад, а земли его отошли во владение агрохолдинга, да вести учёт мёртвых душ: записывал, кто из односельчан и когда отошёл в мир иной. Некоторые старики приходили к нему. Просили заглянуть в красную записную книжку, дивились на имена и даты и, восхитившись каллиграфическим, кудрявым почерком Афанасия Гаврилыча, наказывали, чтобы он их не забыл, когда придёт час. В день смерти Афанасия Гаврилыча Витюша корявенько внёс в отцовскую книженцию последние сведения… А когда старший брат и сестра после похорон уехали, плакал, зажав рот заскорузлой ладонью с грязными ногтями, под которыми чернела кладбищенская земля. Старушки, жившие по соседству, поджаливали Витюшу. Но бо́льшую заботу проявляла бабка Мотя – отдавала сироте помутневшие солёные огурцы в банках или сигареты, забытые приезжающими в гости сыновьями. Витюша ценил доброту, однако разок бабку обсчитал на сто шестнадцать рублей, когда пошёл на почту заплатить за газ, воду и электроэнергию себе и заодно бабке. Купил сигарет. Это вскоре забылось.
Стараниями брата дали сироте третью группу. Когда-то давно, когда Витюша работал в колхозе скотником, его на рогах поносил племенной бык, травмировал ему ногу и голову. После этого несколько раз с несчастным случались приступы эпилепсии. Врачи запрещали пить, но Витюша прикладывался к бутылке. Играл с мужиками в карты, проигрывал, за что получал «на погоны» щелки по лысине, ну и, конечно, прихрамывая, бегал «на точку». В глубине души он презирал собутыльников. Любил общаться с детьми или со стариками, то есть с теми, кто не мог его обидеть.
С детьми Витюша легко находил общий язык. Например, разговор начинался так:
– Жень, июль-ку – самый тёплый месяц по погодным условиям!
Летом на лугу детвора гоняла в футбол. Издали на эту забаву с любопытством поглядывали из разлатого гнезда молодые аисты. Среди играющих выделялась сутуловатая высокая фигура Витюши, который, прихрамывая, самозабвенно гонял резиновый мяч, крича:
– А-ну давай, давай на меня, пасуй, пасуй!
Хитрые на выдумку и острые на язык деревенские мужики дали Витюше прозвище Гарринча.
Зимой Витюша захворал. Рассказывал, что в горле свербит, в груди болит. По ночам боялся спать, потому что, как ему казалось, на чердаке кто-то зловеще вздыхал, ходил и стучал. Иногда страх был настолько силён, что не давал сомкнуть глаз, но, когда перед утром в окна через занавески из плотной жёлтой ткани пробивался мутный свет нового дня, ночные мороки растворялись и неохотно покидали жилище Витюши до вечера… Бывал он у брата в городе, но недолго. Брат боялся жену, а она с пренебрежением относилась к приезжему родственнику, потому что он редко мылся и разговаривал по-деревенски – «куды», «сюды». Дошло до того, что обедать брат водил Витюшу в столовую на В-ском бульваре. Витюша боялся города, шумных улиц. Белокаменный монастырь с собором, у ограды которого сидели на холодном сером тротуаре нищие, окружали высотные новостройки из бетона и стекла. Сирота оглядывался на оборванных нищих и про себя удивлялся, что среди них есть ещё молодые мужчины и женщины. А когда увидел старика с разодранной штаниной, с виднеющейся раздутой от гангрены бордовой с чёрными пятнами голенью, ему стало дурно.
Приезжий боязливо поглядывал на городских, смущаясь, тихо, невнятно, что его переспрашивали, говорил женщинам на раздаче, что ему положить, а когда ел, то втягивал голову в плечи, словно боясь щелка по лысине, и глядел в тарелку. Он чувствовал себя лишним.
– Поезжай-ка ты, Витёк, домой, – сказал брат, когда возвращались из столовой. – Пожил недельку, и хватит. У тебя там дом. Ну что ты будешь ютиться в нашей квартире? В доме-то лучше. Я б и сам в деревню перебрался, на простор, только работа не даёт.
– Ютиться, – ворчал Витюша. Он считал, что лучше терпеть пренебрежение невестки, чем жить одному. – У тебя ж три комнаты, дочка с мужиком отдельно живут.
– Нет, Витёк, ну какая жизнь в городе? Шум, гам, нервные все. Поезжай.
– И поеду-ку, чтобы меня не стеснялся, – обиделся Витюша. – Идите вы знаете куда! Я ж не виноват, что никому не нужон.
– Ну почему ж не нужен? Мы тебя в санаторий определим.
– В санаторий? Какой санаторий? Куды?
– Да в хороший, тут недалеко. Будут за тобой ухаживать. Может, найдёшь там себе бабу. А то сколько можно одному-то, ну?
…Вторую подряд зиму отправляли сироту не в санаторий, а в городскую больницу недели на три. Было там несколько палат, отведённых для бомжей и прочих горемык. Когда за Витюшей приезжала «буханка» с красным крестом, провожать сходились бабки, живущие по соседству. Витюша, убитый горем, словно его увозили на заклание, растерянно глядел на старух, произносивших тоскливые речи. Водитель «буханки» доставал сигарету и задумчиво курил, а молодая медсестра для приличия не поспешала.
– Баб, вы тут следите, не забывайте, – мямлил сирота, влезая на подножку машины, оглянувшись. – Баб, вы тут глядите, чтоб не растащили.
– Мы будем глядеть, не волнуйси.
Витюша был в драной шапке-ушанке, в старой братовой шинели не по размеру, в которой тот пришёл из армии, местами битом молью красном шарфу, в дутышах на синтепоне и держал в руке облезлую сумку с вещами. О чём он думал, глядя в окно машины на занесённые снегом белые поля, голые чёрные деревья лесополос? Бог его знает.
…Февраль лютовал и ковал доспехи для последней битвы с весной. В печной трубе завывала вьюга. На окнах между миром свирепой зимы, жить которой осталось недолго, и натопленным мирком людей сплелись на стекле хрустальные узоры. Бабка Мотя варила суп. В тесной кухоньке пахло луком и морковью. Во вторник бабка никого в гости не ждала. Вдруг раздался лай дворового пса и стукнули двери в сенях. В зеркале отразилась облепленная снегом фигура с вещевой сумкой. Это вернулся Витюша, принеся с собой морозного воздуха. Попросился ненадолго, потому что в его доме полопались батареи. Бабка налила гостю горячего супу.
– Баб, а можно я ишо посижу? – робко попросил он.
– Да сиди, сиди, – ответила бабка, обрадовавшаяся, что помогает в нелёгкую минуту.
Насидевшись, гость спросил разрешения прилечь в зале на диван. Сердобольная бабка Мотя достала из скрыни новое тёплое одеяло с вышитыми розами, которое ей в подарок на День Победы привёз в красивом пакете глава сельской администрации. Витюша освоился – включил телевизор. Посмотрели с бабкой, сидевшей с благодушным видом рядом на стуле, передачу про женитьбу, и от сытости и тепла его разморило. Спал так, как не спал давно, а выспавшись, попросил вечерять. Бабка пожарила картошку и доверила Витюше ключ от погреба, где он выбрал себе понравившуюся банку помидоров.
Прошёл день, второй. К бабке пришла соседка Настя, Витюшина ровесница, которая на похоронах Афанасия Гаврилыча задумалась во время отпевания и свечкой подожгла стоящему впереди деду рубаху. Дед встрепенулся, прервав молитвы священника трёхэтажным матом, но обошлось – люди потушили. С тех пор дед возненавидел Настю за то, что односельчане с её-то подачи дали ему прозвище Каскадёр.
– Витькя, тот вон, – пыталась сформулировать претензию недалёкая Настя. – Что ты, тот вон, лежишь? Шёл бы, тот вон, хату растоплять, а то, тот вон, приютился у бабки, тот тебя вон!
– Иди к ядрёни мать! – рассердился Витюша, подхватившись с дивана. – Я не у тебя приютился! Тебе какое дело? Растоплять… Там трубам хана.
К вечеру пришла бабка Глаша:
– Витькя, ты что ль у бабки ишо?
Витюша что-то недовольно пробурчал из-под одеяла с розами. Бабка Мотя была не против, чтобы гостя уже как-нибудь отправили домой, потому молчала.
– Витькя, бессовестные твои глаза! – наседала старушка. – Ишо и телевизир включил. Обещалися злыдни на три дня, а осталися на усю жись!
Из-под одеяла высунулась лысина, и посыпались, как из мешка, ругательства. Гнала, гнала бабка Глаша – не выгнала. Вскоре пожаловал старик Николай Фёдорович – ветеран труда. Наверное, бабки подбили. Пришёл важный, снял в сенях пальто с каракулевым воротником, вошёл в зал, тонко позванивая медалями на груди. В общем, выгнал Витюшу. Задавил авторитетом.
На улице ворочалась колкая мгла. В небе робко поблескивали белые, розовые и синие огоньки звёзд. Родной дом показалась Витюше чуждым и страшным – чёрные глазницы окон глядели зловеще, а острые сосульки волчьими клыками свисали над крыльцом. Вошёл Витюша в пустоту и хлад нетопленного жилища и закручинился. И, может быть, впервые задумался о своей жизни: такой же унылой, как остывший отчий дом. Вспомнилась ему мать, и так на душе стало тяжко, хоть сейчас ступай на кладбище и ложись. Лёг Витюша в одежде на продавленный диван, укрылся с головой одеялом, пахнущим мышами. Проснулся в тревоге поздней ночью, когда от мороза трещал неподалёку на реке лёд. Однако разбудил его не треск, а что-то неведомое, что давно уже следует за ним, и что он впервые увидел внутренним взором. Витюше казалось, что вся тоска, боль, какие возможны в природе, окружили его. На чердаке кто-то ходил, как раньше… С реки доносился треск, река словно вздыхала… Витюша лежал под одеялом, сомкнув веки. Перед утром увидел свою мать, которая звала его в даль, залитую светом…
Пришла весна. Солнце пригревало, по улицам заговорили ручьи. Тощие петухи перекликались по деревне. Над лесом за рекой стояла мутноватая дымка. Прилетели грачи. Началась та добродушная, весёлая суета, возможная только весной. Воздух мягок, пахло талой водой. И в жизни Витюши наступили долгожданные перемены – жена брата сменила пренебрежение на милость. Родственники приехали с хорошей вестью – решили продать дом в деревне за четыреста тысяч и забрать Витюшу в город, где он будет жить в одной из трёх комнат, как кум королю. Потепление в отношениях имело под собой почву: брат с невесткой задумали сдать старую машину в автосалон, а для доплаты на новую денег не хватало. Сирота не соглашался, помня недоброе отношение невестки и подкаблучника брата. Уехали, но стали чаще навещать родственника, привозили гостинца – то колбасы, то пирогов домашних с повидлом. Прошло лето, на опавших листьях засеребрился иней. Приближалась зима…
«Ну а что, – прикидывал в сомнении Витюша. – Пусть продают. Всё-таки четыреста тысяч… Где они их возьмут-то? А тут я им вроде бы подарил. Не будут же они меня опосля этого притеснять?»
В середине ноября простился Витюша с бабками навсегда. Когда на старой машине брата отъезжали от родительского дома, объявление о продаже которого уже читали в районке, бросил печальный взгляд назад и, как от невыносимой боли, сомкнул веки. Во внутреннем кармане поношенной куртки с испорченной молнией лежала красная записная книженция Афанасия Гаврилыча…
Когда я был школьником, это со мной Витюша гонял в футбол на лугу. Учась в университете, я приезжал на каникулы в деревню, и Витюша встречал меня, словно дорогого человека, расспрашивал про учёбу с важным видом, хотя без ошибок не смог бы написать слово «университет». Встретил его в городе случайно. На улице. Витюша был опрятно одет. Но что-то не так. Спрашивал про мою бабушку, передавал ей привет, а когда простились, шёл, как тень, следом, точно силясь сказать нечто важное, и сказал:
– Забери меня отсюда.
В ответ на моё недоумение Витюша добавил, блестя глазами:
– Не могу я с ними, нету мочи моей боле… Забери!
– Ну куда я тебя заберу?
Я спешил. Подойдя к автобусной остановке, обернулся: Витюша стоял потерянный посреди тротуара, над ним возвышались многоэтажки, за которые закатывалось красное холодное зимнее солнце.
МАТЕРЬ СОЛДАТА
Старушка собралась печь пироги, когда с запада глядела грозная февральская мгла. Проникновенный взгляд Богородицы освещался огоньком свечи, потрескивающей в тёмно-синей лампадке. Пресвятая видела, как согбенная хлопотала возле печки.
Жила она в одиночестве в избе на окраине села, жители которого всё говорили, что, наверное, это произойдёт на днях… В избе пахло кислой капустой – днём варила борщ. Для пирогов достала из погреба банку прошлогоднего яблочного повидла. В обитом полупрозрачной плёнкой окошке старушкиной кухни светился тусклый огонёк, и сосед Васёк, страдающий бессонницей и алкоголизмом, удивился, наливая мутный самогон в гранёный стакан, – чего это бабке не спится? На зимнем небе едва проглядывали редкие звёзды, и одна горела ярче, настойчивее других. Наверное, это был Марс… Выли собаки.
Повязывая утром серый пуховый платок, старушка задумчиво глядела на чёрно-белую фотографию в рамке. На снимке – улыбающийся солдатик с редкими усами, афганка, бесплодные склоны за спиной, кусочек серого неба… Застегнула пуговицы старомодного пальто и с полным пакетом пирогов вышла на улицу. В воздухе пахло скорой весной. Опираясь на клюку, по просёлочной дороге направилась в сторону железнодорожной станции, оставляя на ноздреватом снегу, лежащем на обочине, косолапые следы.
За лесополосой, ощетинившись блоками динамической защиты, стояли тёмно-зелёные танки. Рокот двигателей, дрожащий дымок, говор танкистов.
– Что ты бабушка? Сюда нельзя, – улыбнулся один лет под тридцать в чёрном шлемофоне.
Другие смотрели и не понимали: что привело старушку?
– Бабушка, здесь находиться запрещено, иди домой, – сказал подошедший коренастый голубоглазый сержант.
– Я вам, сынки, пирожков с повидлом напекла, – ответила старушка, блестя глазами, подавая сержанту пакет с облезлым изображением медвежонка. – Небось пишша армейская – не материна еда…
Лица танкистов озарились сдержанными улыбками. Уходя, старушка коснулась заскорузлой рукой холодной брони мирно рокочущего гиганта.
Ночью стоял тяжёлый гул. То казалось, что исходил из-под земли, то откуда-то сверху. Словно проснулся громадный зверь, встряхнул колючий панцирь, и, сотрясая землю шагами могучих когтистых лап, двинулся в бескрайнюю ночь, лязгая стальными клыками. В сизом небе отражались сотни огней.
На следующий день она пришла вновь: вывернутые, переломанные деревья на небольшом участке, развороченная траками земля. Старушка перекрестила ведущие на запад следы гусениц, долго смотрела вдаль, едва слышно твердя:
– Храни вас Господь, сынки.
Вечером проникновенный взгляд Богородицы освещался огоньком свечи, потрескивающей в тёмно-синей лампадке.
Марина СТЕПАНОВА, г. Самара
КАРТОЧКИ
Дул промозглый северный ветер. Как всегда, в это время года в Москве. Шура подняла воротник, попытавшись посильнее укутаться в своё много раз уже штопаное пальтишко. Нужно было спешить отоваривать карточки. Две младшие сестры остались дома одни, мать с утра на работе, Шура – за старшую. Озябшие пальчики периодически проверяли карточки в кармане. Не потерять бы! Всё-таки там хлеба на всю семью. Эх, сейчас бы хлебушек помазать маслом, сверху положить варенье и с чайком… Как до войны… В животе грустно заурчало от голода. Но мысли о горячем чае помогли согреться, и девочка не заметила, как полубегом преодолела три квартала.
Хвост длиннющей очереди виден был издалека. Люди стояли друг за другом, каждый думал о чём-то своем. Шура встала в конце, мысленно прикидывая, успеет ли отоварить карточки и вернуться домой до того, как проснутся младшие сёстры. Наверное, не успеет. В прошлый раз такое опоздание стоило довоенных фотографий. Маленькие девочки попытались ими разжечь печку. Согреться, конечно же, не вышло, зато фотографии мигом превратились в пепел. Редкие кадры счастливых довоенных моментов. Выступления шуриного танцевального ансамбля, она – солистка. Шура вздохнула. Трудно поверить, что всё это было. Сейчас казалось, будто война была всегда.
Впереди стоящий дедушка в поеденной молью шапке порывисто закашлял. Девочка отвлеклась от своих невесёлых мыслей и встала на цыпочки, чтобы разглядеть, где же начало очереди.
– Ты, наверное, совсем замёрзла тут, – неожиданно услышала Шура чей-то голос рядом. Высокая женщина внимательно смотрела на неё.
– Немножко, – робко ответила девочка: от такого пристального взгляда почему-то стало не по себе.
– Ты что же здесь совсем одна? – продолжила расспрашивать женщина.
– Да, одна, мама на работе, – сказала Шура.
– Давай помогу тебе, я в самом начале очереди с сестрой стою, сейчас отоварю твои карточки вместе со своими и вернусь сюда к тебе. Жди меня тут! – проговорила женщина.
Шура достала из кармана карточки и протянула их незнакомке.
Прошли долгие полчаса. Тот самый дедушка в шапке уже заметно приблизился к началу очереди. Народу за ним значительно прибавилось. А женщины с шуриными карточками всё ещё не было. Страшная догадка сначала осторожным звоночком отозвалась в душе. Нет, такого просто не может быть, не должно так быть… Девочка, как могла, отгоняла тревожные мысли. Задерживается, отошла, забыла, ищет и не может найти… Варианты калейдоскопом крутились в голове, нарочно избегая наиболее вероятный. И только когда тот дедушка отоварил свои карточки и медленно прошёл мимо Шуры, направляясь, вероятно, домой, только когда его шапка исчезла из виду за поворотом, вот только тогда девочка всё поняла окончательно. Поняла, что вернётся домой без хлеба. Без карточек. Голодная к голодным близким. Слёзы градом полились по щекам. Девочка закрыла лицо руками.
Молчаливые хмурые люди в очереди отвлеклись от своих грустных мыслей, услышав детский плач. Все оживились, стали подходить и успокаивать, спрашивать, что случилось. Сначала многие подумали, что девочка потерялась. Но услышав сбивчивый рассказ ребёнка, всё поняли. Понять, что случилось, было не так уж и трудно, но вот принять… Осознать, что вот здесь, сейчас, на этом клочке земли, в этой очереди, среди озябших от колючего ветра, полуголодных людей, нашёлся тот, кто смог так цинично обмануть ребёнка. От этой мысли становилось пронзительно больно, хотелось плакать вместе с девочкой, сжимавшей в руках пустую сумочку.
В эту самую сумочку и стали складывать, кто что мог. Несколько картофелин, луковицу, пару сухариков, даже сушку. Люди заглядывали в свои котомки и мешочки и делились всем, чем могли. В ту минуту эти, по сути такие же несчастные и обездоленные люди, волею судеб оказавшиеся рядом, поделились с девочкой не просто едой, они поделились с ней безграничной и нерушимой верой в хороших людей.
ОТКРЫТКА
Однажды, разбирая книжный шкаф, Света нашла небольшую стопку открыток. Памятные радостные моменты. Света рассматривала каждую. Поздравления с праздниками от знакомых и родственников из разных уголков большой страны.
– Сколько же лет прошло? – размышляла Света.
Письма уже давно никто не писал. И открытки тоже не присылал. Новый мир, прогресс, продвинутые средства связи. Вместо подробных писем – короткие телефонные гудки. Вместо встреч с друзьями – смайлики в социальных сетях. И открытки с пожеланиями успехов, здоровья и счастья в личной жизни, конечно, тоже отправляются, только теперь в мессенджерах. Но всё это не то… Никогда не сравнится с волнительным трепетом, когда выуживаешь увесистый конверт из почтового ящика, поспешно смотришь на обратный адрес и фамилию отправителя, вскрываешь уже на лестничной площадке, с нетерпением читаешь в лифте… Сейчас всё проще, быстрее, удобнее. Безусловно, СМСки тоже приятно получать. И всё же не так, как настоящие бумажные письма и открытки. Не тот градус душевности, что ли…
Света вертела в руках очередную открытку. Поздравления с окончанием школы от родственников с Дальнего Востока. В памяти оживали события того года, лицо расплывалось в улыбке. Другая открытка сообщала о рождении двойни у тёти из Мурманска.
Внимательно прочитав все открытки, Света обнаружила одну совершенно новую, никем не подписанную, видимо купленную про запас. «Счастливого Нового года!» – затейливым синим шрифтом было выведено внизу, а в центре на фоне зимнего волшебного леса красовался Емеля, беседующий с щукой у проруби.
Света подошла к окну, продолжая рассматривать открытку. А за окном кружился снег. Предновогодняя пора в этом году выдалась действительно праздничной и сказочной, как на открытке. Свете захотелось вдруг подписать открытку. Она села за письменный стол, включила настольную лампу, достала свою самую лучшую шариковую ручку с тонким пёрышком и начала, не спеша, выводить аккуратным почерком пожелания здоровья, счастья и хорошего настроения – стандартный поздравительный набор, но почему-то именно сейчас, на картоне этой милой советской открытки, он приобретал какой-то особый смысл.
И тут Света решила, что открытка наконец-то дождалась своего часа и её обязательно нужно кому-то отправить. Вот только кому? С кем поделиться новогодним настроением, поздравить с наступающими праздниками? Света задумалась. Родители живут совсем рядом, через дорогу, со Светой и так часто видятся. Наверное, удивятся письму, ещё разволнуются от неожиданности, всё-таки возраст, подумают, что-то случилось. У сестры – семеро по лавкам, не до писем, не оценит. Скажет:
– Светка, ну ты чего, телефон же есть, не знала разве?
Перед сном Света продолжала перебирать в голове варианты. Родственники с Дальнего Востока уже тогда были в почтенном возрасте. Живы ли? Та самая тётя из Мурманска давно оттуда переехала. И кажется, присылала письмо с новым адресом. Но письмо это, конечно, не сохранилось. Света сама не поняла, как заснула в раздумьях.
Лишь к вечеру следующего дня Света снова вспомнила про открытку. Предновогодняя суета так закружила её, пробки на дорогах и рабочие вопросы так замотали, что, только возвращаясь домой и заглянув в кармашек сумки в поисках ключей, Света обнаружила открытку. Уже в подъезде, забирая квитанции из почтового ящика, Света осознала, что отправить открытку ей решительно некому. Немного поразмыслив, она достала открытку и положила наугад в чей-то ящик, даже номер квартиры нарочно запоминать не стала. Своих соседей по подъезду Света толком не знала. Каждый раз на лестничной клетке или в лифте встречала новые лица, как в телеигре «Поле чудес» – новую тройку игроков. Оно и понятно. Жизнь не стояла на месте, люди то въезжали, то переезжали. Света и сама тут жила не так уж давно.
Приближался Новый год. Света спешила домой с охапкой ёлочных веток и несбывшихся новогодних надежд. Подходя к подъезду, она обратила внимание на стайку бабушек у лавочек. Старушки что-то оживлённо обсуждали.
– Ну вот, говорили же мы тебе, Семёновна, ничего они тебя не забыли, внуки-то твои, – донеслись до Светы радостные голоса.
– Конечно не забыли, а звонить им просто некогда, потому так давно и не звонили, – поддерживали другие бабушки.
– Вот именно, всё им некогда, даже подписаться и адрес обратный поставить! Да не в том дело, главное – поздравили! – улыбалась старушка, крепко сжимая в руках светину открытку.
 Алексей ШУПИКОВ, г. Брянск
Алексей ШУПИКОВ, г. Брянск
ОБЕЩАНИЕ
Когда мне было одиннадцать лет, родители продали квартиру и купили дом. Скажу сразу, что к частным домам у меня тогда сердце совсем не лежало. И, в отличие от нашего многоквартирного, они казались маленькими и совсем ненадёжными.
Что касается самого дома, то был он деревянный, выкрашенный ярко-зелёной краской, и находился на самой окраине города. «Под горкой» – как говорили знакомые родителей. И это правда, он действительно был под горкой, причём стоял на очень крутом повороте.
Так вот, когда его купили, прежние хозяева, старуха с дочерью, не успели загрузить всё своё добро. «Нихань полежит пока, – стучала палкой по транспортёру старуха. – А осенью, край зимой, заберём».
Транспортёр, или транспортёрная лента, был ходовым материалом в наших краях (как правило, им огораживали приусадебные участки). «Осенью, край зимой», – как заклинание повторяла она, жалобно поглядывая то на отца, то на транспортёр. Отец одобрительно кивал головой: «Есть не просит, пусть лежит». На том и договорились.
Старуха уехала, крикнув в последний раз: «Осенью, край зимой!». А мы уже через пару дней переехали в собственный дом.
***
Летние каникулы, как это обычно бывает, незаметно пролетели, и начались школьные будни.
Как-то раз мы с моим другом Саней подпалили траву за домом. Сухое быльё полыхнуло не хуже пороха, и уже через пару минут пламя перекинулось на деревянный забор. Закончилось всё тем, что соседка Петровна вызвала пожарных. К счастью, расчёт приехал быстро, и пожару не позволили разгуляться. «Вот поймать бы этих поджигателей! – ругался усатый пожарный. – Шли бы к своим домам и подпаливали на доброе здоровье!» Мы же молчали и лишь переглядывались друг с другом. В тот вечер меня пороли ремнём, да так, что я до сих пор помню всё в мельчайших подробностях. Кстати, отец после этого всё чаще и чаще начал заглядываться на скрученную у сарая транспортёрную ленту.
***
Однажды я проснулся оттого, что на кухне спорили родители.
– Муж, ну ты же ей обещал!
– Обещал-обещал! Мало ли чего я обещал!.. Она тоже обещала – осенью!
– Она говорила «осенью или зимой».
– Так вот она, осень твоя!
– Ну, значит, зимой!
– До зимы знаешь?!
– Что?!
– Да ничего… Мы и так все деньги вбухали в этот дом. А я, между прочим, не Рокфеллер, у меня на новый забор денег нет!
– Петь, ты слово дал!
Отец выругался и, громко хлопнув дверью, вышел, а я в буквальном смысле выдохнул. Мне совсем не хотелось расстраивать старуху. Тем более что она и так не хотела продавать дом, а тут ещё и транспортёр этот.
Так он пролежал осень, зимой его завалило снегом, а когда с крыш забарабанила капель, он снова попался на глаза отцу.
***
В одно воскресное утро мы сидели на кухне и пили чай.
– Оль, скоро одуванчики зацветут, где твоя бабуся?! – прихлёбывая, начал отец.
– Зацветут… – краешком губ улыбнулась мама. – Вчера видела Петровну, говорит, якобы Тамара умерла…
Тамара – это старуха, у которой мы купили дом.
– Вот и отл… – отец осёкся. – Ну, ты поняла…
Мама покачала головой и уставилась в окно: «А может, пусть полежит ещё?..»
– Оль!
– Ну что, Петь?
– Нет уже твоей бабки, вот что!
– Ой, всё! – махнула она рукой. – Делай ты что хочешь! Надоело!
Отец, как человек военный, команду понял буквально и этим же вечером взялся за дело, заодно прихватив с собой и меня. «Учись руками работать, сынок, – приговаривал отец, наяривая молотком. – В жизни всё уметь надо!»
На постройку нового забора у нас ушло примерно около недели. Мама уже больше не переживала и вечерами выходила помогать. И вот одним таким вечером, когда забор был практически готов, возле нашего дома остановилась машина.
– Петь, к тебе что ли?
– Да вроде нет…
Отец оказался прав. Вернее, не то чтобы прав, приехали не к нему, а к нам. Старуха и дочь. Мама так и ахнула. Старуха, перекатываясь с одной ноги на другую, подошла к забору и ухватилась руками за транспортёр.
– Ну я же вас просила!.. – запричитала старуха.
– Год прошёл, они проснулись?! – не оборачиваясь, пробурчал отец.
– Олечка, ну хоть ты ему скажи! – взмолилась старуха. – У меня инсульт…
– Петя, давай отдадим!
– Раньше надо было вошкаться!
– Петя!
– Нет, я сказал!
– Ну!.. – зашипела старуха, – ну!..
А затем потрясла палкой и разразилась проклятиями:
– Да чтобы этот транспортёр у вас на кладбище оградой был, чтоб вам всем…
– И вам того же! – отрезал отец.
Старуха закатила глаза и, если бы не вовремя подоспевшая дочь, точно упала бы в обморок.
– Только не волнуйся, только не волнуйся! – лепетала дочка, злобно поглядывая на нас. – Так, давай-ка садись, ага… вот та-а-ак…
Она усадила её в машину и резко рванула с места.
– Некрасиво, ох, некрасиво… – побледнела мама и быстренько ушла домой. А отец сначала долго сопел, а потом выругался на меня и угостил увесистым подзатыльником.
***
Вечером я пошёл за водой, а мама решила подышать свежим воздухом. Завидев маму, к нам присоединилась Петровна.
– Капта зря вы так, – топталась на месте Петровна. – Тамара она такая, она сделать может. Давча видела Михалну, так та сказала: «Тамара это просто так не оставит. Она женщину знает».
– Петровна… – через силу улыбнулась мама, – мы в это не верим.
– Ой, сделает… – не унималась Петровна. – У меня картошка завсегда хуже ейной была, а всё через женщину ту. Огороды у нас, ты глянь, – она сложила ладошки корабликом, – рядышком стоять, только у неё урожай, а у меня – медведка да хомяк.
Мама задумчиво глядела на Петровну и кивала головой.
– Надысь Михална рассказывала, был у неё платок. Хороший платок, тёплый. Тамара увидала и говорит: «Гдей-то ты себе такой платок купила?»
Тут Петровна замолчала.
– И?
– А то что утром взяла платок, а он изрезан весь! Не веришь? Могу принесть!
– Кого?!
– Ну платок то этот!
– Так он что, у вас?
– Ну да! Мне Михална его отдала, сначала хотела сжечь, да я не дала.
– И что же вы с ним сделали? – спросил я.
Петровна развела руками и спокойно ответила: «Ничего не сделала, носю вот».
Я не сдержался и начал смеяться. Глядя на меня, мама немного ободрилась и, ещё немного поговорив с Петровной, пошли домой.
***
На другой день часть, в которой служил отец, подняли по тревоге, и он, наспех собравшись, уехал. Причём, как только я узнал о тревоге, мной сразу овладело такое неприятное предчувствие, что все уроки я просидел словно в прострации и к концу учебного дня получил аж три двойки подряд.
Наконец отмаявшись в школе, я пришёл домой. Мама молча сидела у выключенного телевизора с пультом в одной руке и телефоном в другой.
– Отец сегодня так и не позвонил… – взволнованно сказала она.
– А что за тревога вообще?
– Да вроде бы как всегда… Почему тогда не звонит? Никогда такого не было, – мама вдруг так посмотрела на меня, что у меня аж мурашки пробежали по спине.
Почему-то сразу вспомнился случай, когда во время стрельб в нашей части взорвался миномёт. Тогда погиб отец моей одноклассницы.
– Может, телефон сел или ещё что.
Мама кивнула головой.
– Как школа?
– Нормально.
– Иди поешь. Суп на плите.
– Хорошо.
– И мяса положи! – крикнула мама вдогонку.
– Положу.
Но мяса мне совсем не хотелось, и, поболтав ложкой в тарелке, я вылил всё в унитаз.
***
Когда в нашу дверь постучали, я делал домашнее задание. Сердце у меня тогда точно оборвалось, и я, затаив дыхание, притих. Я слышал, как мама, потеряв на ходу тапки, побежала к двери. Слышал, как долго не поддавался замок. Слышал, как звонко упали на пол ключи. Слышал её взволнованный голос. А затем наступила тишина, и мама вошла ко мне в комнату.
– Это к тебе, – с каким-то облегчением сказала она.
Я вышел на крыльцо. «Кошкин домик», как мы его называли. Саня к тому времени уже сидел на диване.
– Уроки сделал, двоечник?
– Ага… – усмехнулся я.
– Гоу на стадик!
– Ща. Ма! А можно я пойду погуляю?! – крикнул я.
– Уроки сделал?!
– Вечером доделаю, там чуть-чуть осталось!
– О, заливает, – расплылся в улыбке Саня.
Я стукнул его в плечо. Саня стукнул меня в ответ.
– Чтоб недолго, понял!
– Понял!
– Понял, – перекривлял меня Саня и сделал «саичку за испуг».
***
На стадионе мы встретили знакомых ребят и начали играть в догонялки. Причём в какой-то момент мне вдруг стало так весело, что от тревоги, мучившей весь день, не осталось и следа.
– Андрюха идёт… – насупился Саня.
Андрюха – это его старший брат.
– Сто пудов скажет домой идти.
Отец ребят затеял стройку и, когда приходил с работы, активно прививал им любовь к труду.
– Вить, – крикнул мне Андрей. – Иди домой!
– С чего вдруг?!
– Тебя мамка искала!
– А что случилось?!
– Говорю же, мамка искала!
Попрощавшись с Саней, я пошёл домой.
***
Когда я начал спускаться с горки, то сначала увидел толпу возле нашего дома, а потом огромный пролом в стене и торчащую из него машину. Красный микроавтобус зацепился задними колёсами за фундамент и в таком положении замер прямо в нашем зале. Взрослые, завидев меня, расступались и с каким-то наигранным сожалением кивали мне вслед. «Вон! Пошли все вон из моего дома!» – захотелось крикнуть мне изо всех сил, но это уже был не мой дом. В этом – разбитом, хозяйничали уже другие люди с молотками и монтировками. Я перепрыгнул разбитый в щепки штакетник, от сильного удара его раскидало по комнате, и зашёл в зал. Комната была завалена выбитыми брёвнами с дранкой, а в шкафу стояли хрустальные бокалы, покрытые толстым слоем пыли. «Витя, только не волнуйся, мама жива!» Подбежала крёстная. Только сейчас я вспомнил о маме. Её действительно не было дома. Я глянул на кресло, в котором она обычно сидела, и увидел труп незнакомого человека. Раскинув руки, он уткнулся окровавленной головой в мягкий пуфик. Крестная схватила меня и попыталась прижать к себе, но я оттолкнул её.
– Где мама?.. – спросил я у крёстной.
– Она в больнице, Витя, с ней всё в порядке! Витя?..
Я выскочил на улицу. «Она врёт мне, они все врут мне!».
– Где мама?! – закричал я.
И тут я увидел маму. Она выбежала из скорой помощи, растрёпанная, в домашнем халате и тапочках. Я кинулся к ней навстречу.
– Я жива, сынок! – крепко обняла меня она. – Я жива…
***
Теперь мы жили в семье нашей крёстной. Мне нравилось у них. Особенно нравились вечерние разговоры на кухне. Бывало подожмёшь, как курица, озябшие ноги и слушаешь разговоры взрослых.
«Ведь стоял же дом сколько лет, – удивлялась крёстная, – и ничего!». «И ничего…», – повторила мама и начала рассказывать про Тамару, транспортёр и проклятие. «Сделано! – заключила крёстная. – А ведь я так и думала! Сколько дом у Тамары стоял? А стоило только вам купить и всё! – тут она немного подумала и добавила: – А, может, это вообще только цветочки…» От этих слов у меня мурашки побежали по спине, а мама резко сменила тему.
Пару раз, вспоминая слова крёстной, мне становилось до того страшно, что я начинал просить Деда Мороза защитить нашу семью. Конечно же, я знал, что подарки под ёлку кладут родители, а не Дед Мороз, но если есть зло, то должно же быть и добро. Но никакого другого «добра» кроме Деда Мороза я не знал.
Как-то раз мама сказала, что нужно сходить в церковь, но на этом всё и закончилось. В церковь мы не пошли, слишком много было дел на выходных, и я так и продолжал дальше просить Деда Мороза о защите.
***
Прошло примерно два месяца, и дом был восстановлен. Теперь перед ним, как в фильме «Блокпост» выросли бетонные блоки. А сам домик мы выкрасили весёлой бирюзовой краской. «Ешшо лучче, чем былО!», – говорила Петровна. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», – отвечал отец. Конечно, всё это было благодаря помощи людей. В те два месяца, казалось, весь городок пришёл в движение, и каждый стремился нам помочь.
***
Мы красили штакетник, когда у дома остановилась машина. Это была старуха, только теперь она была с дочерью и зятем.
– Оля, дочь – заплакала старуха.
Мама так и задрожала.
– Оля, мы вот тут собрали, – она протянула конверт.
– Не надо, оставьте…
Все замолчали.
– Муж, чтобы сегодня оторвал транспортёр и отдал его! – еле сдерживая слёзы, сказала мама.
– Што ты, Оля, што ты?! Мне уж помирать скоро, прости ты дуру старую.
Она хотела приобнять её, но мама в страхе отшатнулась в сторону.
– Не подходите ко мне! И как вам только не стыдно! Да мы чуть не погибли! – задыхалась мама.
Я никогда не видел её такой.
– Уходите! И деньги свои заберите! А забора этого, что бы сегодня же не было!
Старуха потопталась на месте и, положив конверт на блок, села в машину.
– Я здесь не причём, – сказала напоследок старуха и уехала.
***
Только потом мы узнали, что после этого разговора старуху разбил новый удар и она умерла в больнице. До сих пор я не знаю, колдовала ли она тогда или нет.
Прошло уже много времени. Мы продали дом и переехали в другой город. Мама начала ходить в церковь, и вот однажды в её молитвослове я нашел листок бумаги. После имён бабушки и дедушки стояло имя Тамара. «Та самая?» – спросил я. «Та самая» – ответила мама.
ПОЭЗИЯ
СВЕТЛОЯР
Я вижу — дым, но слышу — дом,
Звон колокольный подо льдом.
Несётся гул: «Пожар, пожар!»
Батый вступает в Светлояр,
И расступается вода,
И разрастается беда,
Тысячеликая Орда,
Ликуя, вскидывает руки —
Стучит копытом рыжий конь,
В притворах мечется огонь,
Глядят угодники с икон
В тоске и муке…
Я вижу сон, но слышу — Сын
Господень ставит на весы
Любовь и память, детский смех,
И кровь живую льёт поверх.
Звонят, звонят колокола
Из-под прозрачного стекла,
Где очертили меру зла
Господним счётом,
Где метафизика проста,
Земля безвидна и пуста,
А если бьют тебя, подставь
Другую щёку.
Пусть кровь — не кровь: вино, елей —
Подставь дома и сыновей,
Платить как раз
За левый глаз
Неправым оком!
Я вижу свет, я помню — свят
На дне укрытый Китеж-град.
На божий промысел пенять —
Не мне, не знающей огня.
Не мне, неверующей, лгать,
Что вся на том и недолга…
Но вижу сон. Во сне моём
Пылает неба окоём.
Я вижу сон. В нём всё не так.
В нём меч лёг тенью от креста
На вражьи шеи в чёрный день.
Я вниз смотрю — что там, в воде? —
Но ледяной дрожит хрусталь —
И мне в лицо летит асфальт,
И рвётся ночь, и рвётся сталь,
Неся погибель,
Верша возмездие и суд.
Жесток и горек ратный труд,
Тягуч, тяжёл — как страх, как ртуть,
Как неба глыба…
Вода озёрная красна:
Мне не очнуться ото сна,
Лишь лёд глаза мои сечёт,
Ломаясь с хрустом.
Непостижим Господень счёт,
Пылает Киевская Русь,
И я, не веруя, молюсь —
Молюсь по-русски.
***
Девочка читает про войну
Книгу в истрепавшейся обложке.
Хорошо, когда страницу можно
Мельком проглядев, перевернуть:
Долетит подбитый самолёт,
Вырастут дома на пепелище.
Он дойдёт, вернётся, и отыщет —
И дождется та, что дома ждёт…
Девочка читает про войну,
«Телеграмм» листает каждый вечер.
Голоса живые, человечьи
Мирную кромсают тишину.
Из походных раций перемат.
Из подвалов раненой высотки
Крик и плач; а в них такое что-то,
Что сведёт и дьявола с ума.
Столько горя, крови позади…
Сколько впереди — подумать страшно.
Но победа будет. Будет наша.
Наша правда сможет победить.
На-гора пошёл девятый год
В угольной пыли, в золе и саже.
Связи нет. Но сердцу не прикажешь:
Девочка надеется и ждёт.
ПАМЯТЬ
Завалено лесное озерцо
Берёзками, гнилыми с малолетства.
Моё в нём искаженное лицо
Отражено чудной гримасой детства,
Которое по тысяче дорог
Идёт вперёд, не ведая развилок.
Запутанной истории пролог
Выводит незаметно к месту силы —
На точку приложения мечты,
Ещё не облечённой в форму слова.
Где чай, разлитый в кружки, не остыл;
Где небо по-осеннему сурово
Стремится вниз — но хмарь мила, когда
Трещит костёр, и волны гасят ветер…
И снова берег. Чёрная вода.
Моё лицо в неверном лунном свете.
Вокруг туман; в тумане скрыта цель.
Сказать точнее — лишь идея цели.
Нелёгкий путь за тридевять земель
Петляет у подножья старой ели…
Служить нельзя выслуживаться брось
Регресс съедает знаки безвозвратно
Чужое время вывернуто вкось
Растянуто разорванной палаткой
полвека полминуты полчаса
полжизни от прорехи до прорехи
и на рассвете чьи-то голоса
зовут меня как может только эхо
но я смотрю
в лицо своё
смотрю
пытаюсь вспомнить
имя
что-то
вроде…
Выходит тень к погасшему костру,
Подбрасывает хворост и уходит.
***
После больших снегов
Можно увидеть, как
Выходит из берегов
Асфальтовая река.
Плещется у двери,
Просится поглядеть
На пустоту внутри.
Медленно по воде
Жёлтый каток плывёт,
Гладит за пядью пядь
Серую плоть её —
И наступает гладь.
И наступает тишь.
Синие огоньки.
Ржавый молчит камыш
На берегу реки.
Только щепотку слов
Выбросило к ногам.
После больших снегов
Будут ещё снега.
***
Разломан хлеб, искрошен весь,
И в воздухе роится взвесь:
Писк комариный, плач и стон.
Тропинки сходятся крестом,
Пожар медовый отгорел.
Лишь на Кудыкиной горе
Над костерком дрожит дымок,
Да травы шепчутся у ног
О темноте, в которой нам,
Как ни смотри по сторонам —
Идти на ощупь за росой,
Тушить угли стопой босой.
 Елизавета ЕВСТИГНЕЕВА, Москва
Елизавета ЕВСТИГНЕЕВА, Москва
***
Причастие воскресное.
Дитятко, подойди.
Земное и небесное —
Всё у тебя впереди.
Над храмом безмолвно стынет
Позолота старинных цат.
Кусочек за Сына,
Ложечку за Отца.
***
Совершеннолетие души.
Отвори мне двери, дядя Петя.
Ведь в раю, в эдемовой глуши,
Кто простит нас, тот нас там и встретит.
День на небеси, ключи в замке́.
Я не жду с земли дурные вести.
Виза — это бирка на руке.
Паспорт — это мой нательный крестик.
***
Суббота. Суббота родительских душ.
Вот смотрит с портрета морщинисто
Бабуля, что сорок декабрьских стуж
К обеду смиренно нам щи несла,
На завтрак — кисель, а на ужин опят,
А после стояла над яслями.
Как в церкви святые стоят и стоят,
И нимбы их — блинчики масляные.
***
Вымолчить небеса,
Выстрадать стихотворенье.
Нарисовать леса,
Родителей, дом, варенье.
А после — двух человек —
Имярека и имяречицу.
Вера — страстнейшая из вер —
Разве она лечится?
Милый, не надо слов.
Не важно, куда дорога.
Всего одно слово — любовь
В автобиографии Бога.
***
Дороги, слякотью заросшие,
Вкусили хлопья снега на́сыто.
Занятнее, чем пятна Роршаха
Ступать по каменистой насыпи,
В тени от города и ко́вида
Входить в чертог усадьбы Пушкина
И зреть пейзажи Подмосковии:
Дома, барак и сад запущенный,
Где почки розовые режутся,
В апрельскую вступая матрицу,
Пока грядущее не чешется,
А настоящее всё пятится.
***
Я везу своё тело домой с работы.
За спиною к продрогшим стеклянным сотам
Липнут рыжие пчёлы ночных огней.
И лишь прошлое едет за мною зайцем.
Люди жмутся по тесным бетонным зальцам,
А за кромкою жизни в ночном окне
Зеленеют дома и жужжит эпоха.
В ней от белых билетов до чёрных вздохов
Можно резать запястья, глядеть на снег,
Размышлять о грядущем, мечтать о Сущем…
Но дорогу осилит себя везущий
В подмосковном автобусе человек.
***
Вот поезд. Вот зима. Вот пассажир
Затерян в балашихинских текстурах.
По пикселям следов плутает мир,
И пассажир глядит сквозь пальцы хмуро.
Он шарит в куртке паспорт и билет.
Галдеж колёс несётся саундтреком…
А за окном компании калек
Подмигивает старая аптека.
Февральский мрак ерошит провода
И вечер до разбитых улиц падок…
Как будто знает: все мы будем там —
Во внутреннем кармане снегопада.
 Яна ЦЫГАНКОВА, Воронеж
Яна ЦЫГАНКОВА, Воронеж
***
Ты начало, и ты конец,
Ты — исток золотой реки;
Из твоих годовых колец
Вылупляются светляки.
И пульсируют ночи в такт,
И ветрами несёт их вдаль,
А ладони подставь — горят,
Как на солнце горит янтарь.
От ключей до сухих пустынь,
От ростков до огня в горах,
Измеряется наша жизнь
В янтаринках и светляках.
***
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы,
Бесприютные вокзалы,
Безымянные причалы
Спящих станций по пути.
Люди, речи, вещи, лица,
И нельзя остановиться.
И своим не поделиться
И чужое унести.
Поезд мчится, сердце рвётся,
В рёбрах в такт колёсам бьётся,
Где-то рядом песня льётся,
За окном летит река.
Путь закончится однажды,
Как и жизнь — билет бумажный,
Эту правду знает каждый, но пока…
Между будущим и прошлым,
Нереальным и возможным
Меж «нельзя!» и смелым «можно!»,
Шагом к цели и судьбой —
Вечный выбор, сложный-сложный,
И железный, и дорожный.
Если можешь… если можешь —
Увези меня домой.
***
Здесь вовсю пахнет соснами.
Здесь,
В самом центре июньского города,
Пахнет, как будто смола
Потекла по стволу.
Ты стоишь и вдыхаешь, зажмурившись,
Спелое лето.
И ни звука вокруг.
Нет. Они появляются позже:
Муравьиные хлопоты,
Ветер в скрипучих верхушках,
Шмель с пушистым филеем,
Ввернувшийся в узкую норку.
Ты стоишь босиком,
Не страшась наколоться иголкой.
Дома ждёт молоко,
И сметана — для красных лопаток.
Почему-то не больно.
— А что, — говорит твой любимый,
— Если всё это — память лесов,
Здесь когда-либо росших?
И тёплой рукой накрывает твою ледяную.
Если всё это — память лесов,
То и все мы, должно быть,
Когда-то змеились корнями
В здешней чёрной земле.
Ты бы сплёлся со мною верхушкой?..
***
Иордану снится хороший сон —
Будто он ручей из больших лесов.
Будто он поёт меж больших лесов.
Там он видит себя счастливым.
Иордану грезится птичий гам,
Спящий в тёплых водах гиппопотам,
А ручей всё течёт по чужим следам —
Каменистым, сухим…дождливым.
И цветёт папирусовая сыть,
И восходит солнечный вечный круг,
И так сладко плыть по течению, плыть,
И не знать,
Что будет на берегу.
Пусть никто речной не тревожит сон:
Далеко до счастья и до беды…
К Иордану как-то
Давным-давно
Вышел мальчик чистой испить воды.
***
Давай, оловянный солдатик, по стойке «смирно»:
За слабость и страх не видать нам с тобой медалей.
Так хочется мира. Так хочется просто мира,
Которого нам этой осенью недодали.
Я знаю, солдатик: держать оборону — трудно.
Труднее, чем снова и снова идти в атаку.
Труднее смотреть прямо в окна домам безлюдным
И видеть повсюду не только плохие знаки.
Я знаю, солдатик, что боль не излечишь словом,
Когда ты одною ногою стоишь на мине.
Но мы не сдадимся; не станет для нас покровом
Ни рыбий желудок, ни огненный вал в камине.
Нет, мы не сдадимся: ни олово, ни бумага —
Живые сердца наживую друг с другом сшиты.
Будь смыслом моим. Я же стану — твоей отвагой.
Мы — верный финал.
Все другие давно забыты.
***
Ехать в поезде
Сидя
Против хода его движения —
Быть героем
Перемотки старой кассеты:
Всё откатывается назад
Всё меняется
Зеленеющие берёзки
Река в разливе
Перелески над соснами
И перелески под ними
Набухшие ивы,
Похожие на женщину на сносях —
Всё Россия моя.
Такая лубочная,
Такая красивая,
Такая моя
Россия.
Неделю назад листвы ещё не было
Никакой
Неделю назад
Кто-то ещё был живой
Неделю назад
Я ехала в правильном направлении
А парой месяцев раньше
Едва не поехала головой.
Плёнка этой кассеты
Крутится только вперёд.
Господи,
Воскресенье твоё — вот-вот…
Пусть больше никто не умрёт.
Ну пожалуйста.
СКАЗКИ
КАНИФОЛЬ
Жила-была Туфелька. Атласная, с аккуратным устойчивым носиком-пятаком и лентами нежно-розового цвета. Пахла клеем и пудрой. Помадно-сахарной. Хорошенькая-прехорошенькая! Это была самая настоящая Балетная Туфелька! Просыпалась рано, вместе с ласточками. Расправляла длинные ленты; подтягивала упругие резинки и ждала репетиций. Жила Туфелька в театре. В Большом.
Балетный класс начинался рано, а репетиции заканчивались, когда на улице зажигали фонари. Туфелька укладывалась на высокий подоконник гримёрки, прямо у окна, и слушала сказки, которые шептал ветер. Иногда она оставалась в холщовой балетной сумке и засыпала прямо там. Без сил.
В сумке жили Массажный Шар и Резинка для растяжки. Шар был похож на ежа. Колючий. Кислотно-зелёного цвета. Говорил отрывисто и твёрдо: «Добрый день». Отвечал односложно: «да», «нет». Так себе собеседник. Туфелька не обижалась, понимала: он обязан быть таким. Как ни странно, но именно твёрдость его тела и характера смягчала мышцы балерины.
А ещё у него была тайна. Массажный Шар… влюбился. Только, тсс! Никому! Он влюбился в стопы. До и после репетиций балерина снимала обувь. Аккуратные пальчики, высокий подъём, тонкая щиколотка. Она становилась на мячик и перекатывала его стопой. Та обнимала Шар, а он шипами целовал кожу.
Резинка для растяжки — эффектная красотка. Розовый цвет «вырви глаз». Тянулась нехотя, с сопротивлением. «Лентяйка», — думала Туфелька. Даже балерина однажды сказала вслух: «Тугая». Но прозвучало это как-то одобрительно. Туфелька ничего не поняла. Слова Резинка тоже растягивала. Так: «здра-а-а-вству-у-уй», «а-а-ай», «о-о-ой». Само слово резинка тянула, а окончание как бы «отпускала». Получался громкий шлепок «здра-а-а-вству-у-у-Й»! Именно так. Туфелька узнала своих соседей получше и в их компании стала чувствовать себя свободно и легко. Сама она любила слушать и наблюдать. А когда к ней обращались, терялась. Туфелька восхищалась мастерством тех, кто много танцевал. Выносливые, с кожаными пятаками, опытные туфли виртуозно исполняли сложнейшие па. Тщательно пудрили потёртые носы и выглядели эффектно.
У Туфельки была сестра. Сестра-близнец. Всегда рядом. Точь-в-точь такая же, как она. Но характер… Характер — другой. Бойкая. «Какими нитками сшили её?» — спрашивала наша Туфелька саму себя. Сестра трудилась и восклицала: «Ты видела, видела, сколько раз я обернулась вокруг себя?». Или: «Подумаешь! Задирают штопаные носы. Мы им ещё покажем!». Эта туфелька ни на секунду не сомневалась в своей силе и красоте. А её сестра молчала: было стыдно признаться, что она боится. Боится сцены.
***
— Хороша. Хороша! — шептались костюмеры. Молодая балерина шла по длинному коридору. Образ феи из свиты Сирени подходил девушке: тонкую талию сзади украшали полупрозрачные крылья, а юбку пачки — «счастливые» пятилистники. На голове — аккуратная диадема, на ногах — Сёстры-Туфельки. Дебют! Вдох. Выдох! Сцена. Плавные движения кордебалета. Унисон. Шшш! Скользнул носок. На миг Туфельке показалось, что она падает. «Соберись!». Устояла. Хорошо, что сестра рядом. Как только закончился первый акт спектакля, и главный занавес скрыл сцену от зрительного зала, к балерине-дебютантке подошёл дядя Женя. Дядя Женя — артист миманса, рабочий сцены, а в молодости — артист балета. Если никто из зрителей и балерин рядом не заметил миг неуверенности, то внимательные и опытные глаза дяди Жени увидели, что балерина поскользнулась и чудом сохранила равновесие.
— Возьми, — сказал он.
Янтарь. Два больших красивых камня. Пахнут смолой, липкие. Один камень дядя Женя вложил балерине в руку, второй бросил в деревянную «кормушку» у самых ног. Канифоль. Канифолька. Пятки и носы балетных туфель, словно голодные голуби, слетелись на «хлеб». Разбили канифоль, растёрли в белую пыль.
— Поканифолься хорошенько. Носок туфли будет стоять крепко и не соскользнёт.
***
Дебют состоялся. Балетная Туфелька победила страх сцены. Пуанты познакомились с Канифолькой, а молодая балерина подружилась с дядей Женей.
 Виктория БЕЛЯЕВА, г. Ростов-на-Дону
Виктория БЕЛЯЕВА, г. Ростов-на-Дону
КОЛЮЧАЯ ИСТОРИЯ
В самом обычном городе, на Звёздной улице стоит дядюшка Фонарь. Когда темнота плюшевым пледом укрывает город на ночь, Фонарь включает лимонадный свет, чтобы никто не потерялся, не заблудился, отыскал свой дом.
На ветру дядюшка Фонарь плавно качается и чуть-чуть поскрипывает, потому что стар и многое повидал, оттого свет его похож на танец. А ещё на улице Звёздной живет тётушка Скамейка. Она приглашает прохожих посидеть на ней и послушать истории старого Фонаря. Особенно разговорчив дядюшка Фонарь весной. Когда город расцветает облачной сиренью и сладкой черёмухой, ему кажется, что и он становится чуточку моложе, ярче, вдохновеннее. Недавно и я сидела на Скамейке на улице Звёздной, вдыхая ароматы ночных ландышей, а дядюшка Фонарь рассказал мне вот эту чудесную историю.
Одним майским вечером горожане, обрадованные чудесной погодой, весело переговаривались и прохаживались по дорожкам улицы Звёздной туда и сюда. Фонарь старался сделать этот вечер ещё удивительнее. Он касался светом каждого прохожего. Тётушка Скамейка принимала в свои дощатые объятья и влюблённые пары, и озорных подростков, и пожилых любителей вечерних прогулок.
Когда стало совсем поздно, и улица Звёздная опустела, тетушка Скамейка почувствовала, как что-то больно укололо её сучковатую спинку. Она ойкнула и чуть не выронила дубовую доску. Дядюшка Фонарь наклонился узнать в чём дело и разобраться с обидчиком тётушки. Никто на свете не должен был обижать скамейки, без них город стал бы пустым и неуютным. Свет дядюшки Фонаря поймал горшок с игольчатым, мохнатым шариком. Его грустная, усталая головка склонилась к спинке Скамейки. От яркого света Фонаря шарик замер. Потом не выдержал, дёрнулся, снова попал колючкой головки по пузатой доске Скамейки. Она ойкнула ещё громче.
Фонарь внимательно посмотрел на мохнатое чудо, грозно мигнул лампочкой и громко брякнул:
— Кто ты и почему так некультурно ведёшь себя с тётушкой Скамейкой?
Шарик в горшке втянул голову, опустил колючки и тихо ответил Фонарю и Скамейке:
— Меня зовут Кактус. Простите, пожалуйста, я совсем не хотел колоться. Это вышло случайно, очень сожалею, что расстроил вас.
Тётушка Скамейка подвинула горшок с Кактусом к доске с нарисованным сердечком. Это означало, что она не обижается.
Фонарь наклонился ещё ниже, чтобы рассмотреть Кактус как следует – зелёная кожа, взъерошенные, рыжие, взлохмаченные иголки, испуганные глаза.
Фонарь покачал плафоном:
— Такой маленький и такой колючий. Твоим иголкам может позавидовать швея Любаша из дома с улицы Лунной. Как ты попал сюда?
Кактусу стало чуточку спокойнее. Он поднял головку на радушный свет Фонаря, кивнул, и рыжие иголочки затряслись:
— Всё на свете со мной случается из-за колючек. В день, когда всем девочкам, женщинам и бабушкам дарят цветы — кажется, восьмого марта, — меня привезли в огромный цветочный магазин. Места прекраснее этого, я ещё не встречал. Кудрявые тюльпаны, небесные колокольчики, плюшевые мимозы и королевские розы кутали магазин волшебными ароматами. Я обрадовался, увидев, что самая прекрасная алая Роза тоже пугает некоторых людей своими колючками. Я шепнул ей:
— Ты похожа на меня.
Роза от этих слов поёжилась, а золотистый Нарцисс засмеялся. Алая красавица ответила:
— Иголки нужны, чтобы отпугивать от моего великолепия недостойных. Я для смельчаков, не сравнивай меня с собой. Ты — всего лишь жалкий, колючий Кактус. Смирись.
К вечеру цветочный магазин опустел. На полу остались обломки веток мимозы. Усталая Продавщица уже собиралась закрывать двери, но на пороге появился высокий Мужчина со скрипкой. Он желал купить букет роз или, в крайнем случае, фиалок, но Продавщица пожала плечами и кивнула на меня. Музыкант со скрипкой, почесал подбородок, поглядел на часы и кивнул продавщице в ответ. А потом отнёс меня в подарок неизвестной Пианистке.
Она долго крутила меня в руках, затем поставила на фортепиано, чтобы я поддерживал ноты. Когда Пианистка переворачивала страницы, постоянно колола об меня длинные пальцы, сердилась и прекращала играть.
Я очень старался не ранить пальцы Пианистки, отклонялся к нотам, но тогда я колол музыкальные строчки, и на меня ворчали Скрипичный Ключ и нота Ля.
Пианистка решила, что ей со мной слишком сложно, взяла горшочек и отправилась на улицу. Она решила разыскать Музыканта и вернуть меня обратно. Пианистка долго бродила по городу без толку. Усталая, она села на Скамейку и долго о чём-то размышляла, а после побежала вслед за ветром, забыв о несчастном горшке с Кактусом. Так я оказался здесь. Я ждал, что она вернётся. Как бы ни было сложно нам вместе, но никого другого я не знал так близко. Всматривался в прохожих, стараясь не поранить тех, кто садился неподалеку. Пианистка не вернулась, а я от грусти уколол уважаемую Скамейку.
Тётушка Скамейка вздохнула и охнула, а Фонарь погладил Кактуса по игольчатой голове тёплым светом. Вдруг Фонарь заметил на макушке Кактуса крошечный бутончик и звонко спросил:
— Значит, ты тоже можешь цвести не хуже Розы?
Кактус кивнул:
— Продавщица в магазине сказала Музыканту, что тогда, когда я почувствую настоящую любовь, расцвету и стану особенным. Только трудно найти того, кто полюбит Кактус.
Фонарь распрямился, посмотрел по сторонам, заглянул в окна домов. Он понимал, что расцвести Кактусу даже на такой уютной, дубовой Скамейке будет непросто.
Скоро сильный ветер принесёт майские, проливные дожди, и они зальют, простудят маленький Кактус до последней колючки. Его горшок не выстоит перед раскатистым громом и страшными молниями. Ветер, ливни, гром и молнии — это сделают не со злости, а от того, что ничего не понимают в домашних цветах.
Фонарь, размышляя, о доме для Кактуса, заметил, неспешно приближающегося дворника Петрова. Тот жил на втором этаже высотки, но домой всегда возвращался поздно. Целыми днями дворник подметал улицу Звёздную, следил за чистотой и порядком. Иногда он рассказывал Фонарю, как грустно ему в одиночестве пить чай и разговаривать с молчаливой пустотой.
Дядюшка Фонарь обрадовался приятелю дворнику и весело замигал лампочкой. Петров улыбнулся в ответ и направился к нему и Скамейке. Хотел устроится на ней, чтобы поболтать с Фонарём, но обнаружил, что там уже имеется гость — Кактус. Петров аккуратно взял его за треснувший горшок.
Кактус поднял колючки, чтобы случайно не уколоть огромные руки дворника Петрова. Тот присвистнул, коснулся рыжих иголок Кактуса, а следом и своей бороды, хохотнул:
— Ты смотри, какое совпадение, моя борода такая же колючая и мохнатая.
Чей же ты есть, приятель? Наверное, тебя кто-то потерял?
Кактус распрямил рыжие иголки, поднял головку и удивлённо глянул на дворника. Никто никогда в жизни не называл его приятелем.
Фонарь осветил всё вокруг, чтобы дворник Петров понял — у Кактуса никого нет. Здесь, на Скамейке, на этой Звёздной улице, в этом обычном городе он совершенно один.
Дворник Петров огляделся, следуя взглядом за светом Фонаря. Встал, прошёлся по улице Звёздной. Она была абсолютно безлюдна.
Тогда Петров, насвистывая тихую, приободряющую мелодию, вернулся обратно, к Фонарю, Скамейке и Кактусу. Глянул на плотное, затянутое чернотой небо, почесал затылок, о чём-то подумал. Поставил горшок с колючим шариком на сильную ладонь, прищурил один глаз и сказал:
— Ночью будет дождь. Не просто дождь, ливень что надо. Прополощет землю, выстирает листву, напитает корни деревьев. Только ты вот, совсем не дерево, даже не куст. Домашнее существо. Так что, нельзя тебе, приятель, оставаться на улице. Поживешь пока у меня на окне. Чем не дом? Горшок новый найду, без трещин. Напишу объявление и повешу на двери подъезда, где тебя следует искать. На тот случай, если тебя, все же, потеряли.
Кактус от счастья зашевелил иголочками, щекотнул мозолистые пальцы дворника. Тот хохотнул, подмигнул дядюшке Фонарю:
— Верно я говорю?
Фонарь утвердительно замигал лампочками. Дядюшке стало радостно от того, что Кактус теперь не промокнет и не заболеет. Тётушка Скамейка улыбнулась резной доской. Ей тоже стало спокойнее и легче. Кажется, Кактус обрёл новый дом. Петров отнес Кактус на теплый подоконник кухни.
Спустился на первый этаж, над входной дверью повесил объявление, написанное синей ручкой на половинке тетрадного листа: «Дворник Петров нашёл цветок. Особые приметы: высоко держит голову, имеет мягкую и рыжую щетинку, неприхотлив, одинок. Потерявшему хозяину для любви и воссоединения обращаться в квартиру номер восемь улицы Звёздной каждый будний и выходной вечер».
Кактус очень надеялся, что Пианистка не станет его забирать обратно. На подоконнике Петрова было чудесно жить в новом просторном горшке. В окно виднелись улица, Фонарь, Скамейка и даже дворник с метлой.
По вечерам Петров рассказывал приятелю весёлые истории, а по выходным подравнивал ножницами свою бороду и колючки Кактуса, изредка поливал его чистой водой. Кактусы ведь не любят много влаги, им важнее забота, солнечный свет и подходящий горшок.
Как-то мимо дома дворника Петрова в консерваторию спешила та самая Пианистка. Накрапывал минорный дождик, и она решила переждать его, прячась под козырьком подъезда. Там-то она и увидела объявление, написанное на половине тетрадного листа. Отчего-то Пианистке захотелось навестить квартиру номер восемь, посмотреть на Петрова и забытый на тётушке Скамейке Кактус. Пианистка протянула длинные пальцы к объявлению, чтобы сорвать его, решив вечером на обратном пути посетить указанную квартиру.
Фонарь заметил это и что-то осторожно шепнул шумному Ветру. Тот крутнулся возле Фонаря, вырвал из рук Пианистки половинку листа и куда-то понёс. Тётушка скамейка заскрипела, а Пианистке показалось, будто бы кто-то крикнул:
— Спеши, лови.
Пианистка дёрнула острыми плечами и гордо ответила:
— Не очень-то нужны мне дворник Петров и его Кактус. Уважающие себя пианистки бегают только за нотными страницами.
Она вспомнила, что в консерватории её дожидается к репетиции Музыкант со скрипкой и поспешила к нему под мелодию тёплого дождя.
Ветер же решил отнести объявление как можно дальше. На всякий случай. Он оставил его на молодом дубе, что рос на улице Лунной. Дождь смыл часть синих чернил, и некоторые слова исчезли из объявления. Но солнце высушило его, и некоторые слова всё же сохранились.
Когда с работы возвращалась швея Любаша, ей под ноги упала половина тетрадного листа. Любаша подняла объявление и прочла: «Дворник Петров… Особые приметы — высоко держит голову, имеет мягкую, рыжую щетину, неприхотлив, одинок. Для любви и воссоединения обращаться в квартиру номер восемь улицы Звёздной каждый будний и выходной вечер».
Швея провела по объявлению мягкой ладонью, улыбнулась, дома примерила синее в белый горошек платье и отправилась к дворнику Петрову. Она тоже была одинока. К тому же, майский вечер был розовым, ароматным и тёплым.
Дядюшка Фонарь приветственно зажёгся, издали заметив швею Любашу. Он любил, как Любаша поёт и хохочет. Дворник Петров поливал Кактус и увидел в окно, как она весело кружится в каплях вечернего дождя. Дворник восхищённо шепнул: «Какая красота, приятель!»
Фонарь осветил голову Петрова, чтобы Любаша его увидела.
Та улыбнулась, помахала дворнику половиной тетрадного листа. Он открыл окно и спросил:
— Вы по объявлению, за Кактусом?
Любаша поправила шёлковое платье и ответила:
— Я по объявлению, за дворником Петровым. Для любви и воссоединения.
С тех пор в доме дворника Петрова стала жить Любаша. Кактусу тоже очень понравились её песни, искренний смех и забота, поэтому на его мохнатой головке расцвел первый, нежный цветок.
Швея никогда не обижается на острые колючки мохнатого шарика, потому что знает толк в иголках.
Кактус иногда радует дворника и его Любовь своим цветением. Но даже когда его макушка покрыта только одними колючками, не грустит. Знает, что для Петрова и Любаши он и с цветком, и с иголками — самый прекрасный, самый чудесный.
 Анастасия ХАЧАТУРОВА, г. Москва
Анастасия ХАЧАТУРОВА, г. Москва
АТМОСФЕРНАЯ ИСТОРИЯ
Глава 1
Гроза-растяпа
— Да что ж это такое! Больно! Понаставили тут свои дубы вековые, все ноги себе отбила, — громыхал голос над лесом.
Гроза шагала в школу и, как всегда, опаздывала. А всё потому, что облака надо собирать с вечера. Кучевые, слоистые, перистые… Зачем их вообще столько придумали? И всю эту стаю ещё с собой таскать!
По пути из деревни в город её догнал Ветер. В школе его дразнили «шквалом»: то деревья погнёт на холмах, играя в догонялки, то опавшими листьями из леса одноклассников засыплет. «А что? Они сами за мной волочатся», — отмахивался Ветер. Грозе от него тоже частенько прилетало, но зато он один в классе не обзывал её «растяпой» — за то, что она всё роняла и обо всё стукалась.
Увидев Грозу, Ветер тут же разошёлся:
— Ненавижу просыпаться в такую рань! Солнце даже ещё не встало, какие уроки?!
— И не говори! А вот в Антарктиде грозы вообще не учатся и спят целыми днями, представляешь?
— Везёт им. Ты домашку сделала? Можно я её у тебя свистну?
Гроза помотала головой. Вчера им задали из кучевого облака вырастить дождевое, но вспомнила она об этом только поздно вечером, короче, не успела.
— Ай-ай-ай! Дурацкая гора. Ух, как больно! — возмущённо загремела Гроза, споткнувшись в очередной раз.
Прыгая на одной ноге, она не заметила второй вершины, снова ударилась и оступилась.
Ветер попытался подхватить её, налетел сзади и случайно толкнул. Пытаясь удержаться, Гроза сделала пару широких шагов, но всё-таки упала. Рухнула на землю, рассыпала молнии, разбила коленку и зарыдала.
В городе все жители с испугом смотрели на небо: над парком распылились сине-фиолетовые тучи, дождь зарядил с такой силой, будто разозлился на кого-то, молнии сверкали то тут, то там, как перегоревшие лампочки в новогодней гирлянде. Несколько ударов пришлось на деревья, старый дуб раскололся надвое. Его поникшие ветки неистово танцевали и подскакивали то вверх, то вниз, словно кисти в руках художника.
Ветер, наконец, пробрался к Грозе и стал свистеть ей в уши:
— Ты как? Очень больно? Вот ты неуклюжая, конечно. Гроза растяп! Да шучу я, не плачь. Всё пройдет. Дай на коленку подую!
Гроза сидела на обломках деревьев и тихонько всхлипывала. Вдали занимался рассвет, уроки в школе уже начались. Гроза быстро успокоилась, встала, стряхнула с себя последние капли и стала собираться. Молнии искать не было смысла, они разлетелись по всему городу, а вот облака, к счастью, всё ещё кружили рядом. Все, как одно, чёрные. Гроза улыбнулась Ветру:
— Ладно, нормально всё! Пойдём, а то и так уже опоздали. Можешь, кстати, взять у меня пару туч для домашки. У меня их теперь навалом. Только в следующий раз, чур, ты за меня задание делать будешь. А то вечно я за тебя перед Атмосферой Ивановной отдуваюсь. Кто из нас ветер, в конце концов?
Ветер её не услышал, он унёсся вперед, захватив с собой почти все грозовые облака.
— Вот бешеный! – усмехнулась Гроза и поковыляла следом.
Глава 2
Радуги не плачут
Когда Гроза добралась, наконец, до класса, все уже получили оценки за домашнее задание. А ей ни за что, ни про что влепили двойку. Атмосфера Ивановна даже и не взглянула на её облака. У Грозы от обиды снова брызнули слёзы, как вдруг перед ней будто из ниоткуда возникла Радуга. Как всегда в нарядном блестящем платье и с фирменной широкой улыбкой:
— Опять рыдаешь, плакса? Сколько можно, а? Тебя же все сторонятся! Люди тебя боятся! Ты, растяпа, сегодня полпарка снесла по дороге. Громыхаешь вечно на весь город, кому это вообще может нравиться? Ты с меня пример бери. Вот, смотри и учись!
Тут радуга прокрутилась на месте, все семь цветов на её юбке загорелись ярким светом и образовали полный круг. Пассажиры самолета, пролетающего мимо, восхищенно смотрели в иллюминаторы. Только с высоты можно увидеть, что радуга как две капли воды похожа на свою мать — Солнце.
— Хотя, что я говорю. Ты безнадёжна! Даже у Ветра больше шансов стать популярным, чем у тебя, — закончила речь школьная королева красоты и, не дожидаясь ответа, исчезла так же внезапно, как появилась.
Радуга дразнила Грозу с первого дня в школе. И как назло всегда появлялась именно в тот момент, когда Гроза либо только собиралась поплакать, либо уже заканчивала. Сама же Радуга никогда в школе не рыдала, по крайней мере, никто этого не видел.
Гроза так и осталась стоять с поникшей головой рядом с горой, за которой сегодня занималась. Слёзы застряли где-то на полпути. Грозе вдруг стало жарко, она гляделась вокруг в поисках Ветра, наскоро собрала все тучи и, громко прокашлявшись, поплелась в сторону моря.
Ветер уже рассекал по волнам на невидимых роликах и жонглировал брызгами, словно акробат в цирке. Гроза уселась на обрыве, свесив ноги:
— Может, полетаем?
— Что, опять Радуга? — Ветер знал, что, если Гроза просит полетать, дело плохо: грядёт буря.
— Да, — тихо ответила Гроза.
Она теребила в руках облака, перекладывая по одному из ладони в ладонь, а потом слепила их в большой комок. Сначала он был похож на бесформенный шар, но затем у него появились лапы, уши и усы. А на пушистых боках – полоски. Гроза легонько подтолкнула облако вперёд, и по небу зашагал очень важный и сердитый тигр.
— Да не обращай ты на неё внимания, ты же знаешь, какая у неё мама! Тоже мне звезда! То не так, это не так. Чуть что, сразу огреет. Одним взглядом испепелить может. Бррр. Не всё у них там радужно…
— Ну а я-то тут причем? — зажмурилась Гроза, пытаясь остановить вновь подступающие слёзы.
— Вот именно! Я тебе это и говорю. Ты вообще не при чём. Красиво!
Ветер оседлал слепленного Грозой оленя и заставил скакать вдоль берега с такой скоростью, что рога у того отлетели и превратились в порхающих белых птиц.
Гроза смотрела на этих облачных чаек и думала о том, каково это иметь родителей. Если бы у неё была мама, пусть даже такая звезданутая, как у Радуги, она бы точно не была такой вредной. Может, и плакать бы, наконец, перестала. Никому не нравятся нытики, в этом Радуга права.
Гроза незаметно от Ветра вытерла слёзы оставшимися в руках облаками и пообещала себе, что больше никогда в жизни не проронит ни одной слезинки.
Глава 3
Ветер, ветер, ты могуч!
— Ой, подожди, — Ветер застыл на месте, отбросив в сторону своего облачного скакуна. Тот перекувыркнулся и стал черепахой. — Какой сегодня день?
— Вторник, — ответила Гроза.
— Нет! Сегодня же прилетает Смерч! Как я мог забыть, вот мне влетит от папы.
У Ветра очень большая семья. Целых пять братьев. А отец — настоящий Муссон. Один из тех, кто управляет планетой. Весь год он обычно проводит в разъездах между морем и сушей, регулирует погоду, следит, чтобы времена года наступали вовремя, и вообще высоко летает.
Пэтому Ветру часто приходится сидеть с младшим братом Бризом. Старшие — Смерч и Шторм — уже гуляют сами по себе и дома бывают редко.
— За что влетит-то? — удивилась Гроза. — Он, что, маленький? Сам не справится? Дорогу, что ли, не найдёт?
— Да, но папа просил разнести по городу новость о том, что он прилетает. Чтоб люди могли подготовиться. Ты же знаешь его: хватает с земли всё, что видит… А если не в настроении, то и прибрежные дома разрушить может.
— Ещё не поздно. Давай вместе!
Ветер подхватил Грозу и помчался по городским улицам, насвистывая во всю мощь пронизывающие трели.
Люди поплотнее закрывали окна и обкладывали мешками с песком двери — на всякий случай. Смерч в приморских районах частый гость, но обычно он дальше пляжа не идёт.
— Не люблю, когда Смерч прилетает, — вдруг признался Грозе Ветер. — Он хвастается, что может поднять в воздух всё, что захочет… Что угодно! Даже целый дом!
— Ага, точно! Сила есть, ума не надо, — беззаботно ответила Гроза, наслаждаясь полётом. Когда злишься или грустишь, самое то — как следует проветрить мысли.
— Ты не поняла, — Ветер сменил направление и замедлил скорость. — Я тоже так хочу!
— Как так? Как брат крутиться воронкой?
— Нет, быть сильным.
— Ты очень сильный. Ты меня на себе носишь!
— А я хочу здания поднимать!
— Куда поднимать? Зачем?
— Ни зачем! Неважно. Не парься!
Ветер вернулся к побережью, ссадил с себя Грозу, а сам стал пинать волны на пляж. Каждый следующий удар всё сильнее, но постоянно мимо: вода попадала то в длинную штангу волнорезов, то вылетала прямо на пирс.
На улицах города не осталось ни души. Воздух вокруг вдруг стал тяжёлым и плотным. Люди ждали осадков, но теперь, кажется, были им не рады.
— Если хорошенько разгонишься, ты сможешь поднять и унести здание, — задумчиво произнесла Гроза.
— Да где тут разогнаться! Мы же в городе. Дома́ — стеной.
— А мы уйдём отсюда. К горам. Я там видела охотничью хижину на холме. Её-то ты и поднимешь.
Ветер приободрился. И энергично закивал, приглашая Грозу в очередной полёт.
Домчались быстро, впрочем, как и всегда. С высоты деревянный белый домик в окружении выжженной жёлтой травы напоминал жемчужину в морской раковине. Ветер сбросил Грозу на холме и вернулся к городу, чтобы посильнее разогнаться. Гроза расчистила небо от облаков, подняла их повыше и удерживала над землёй, чтобы ничто не помешало задумке.
— Готов? — громыхнула Гроза так, как только она одна и умеет. — Беги, как только увидишь молнию.
Гроза закрыла глаза, вспомнила, чему её учили в школе, и с первого раза полыхнула идеальным мощнейшим разрядом на всё небо.
Глава 4
Имя моё — Ураган
Ветер мчался так быстро, как никогда в жизни. Маленький домик стремительно увеличивался в размерах, на такой скорости он не выглядел тяжёлым и неподвижным. Ветер раскинул руки, обхватил ег за хлипкие стены и поднял на несколько километров. Тот треснул, как шишка кипариса, и с грохотом свалился на землю.
—Ура! — громыхала Гроза, от радости запустив в воздух сразу три молнии. Те разлетелись в разные стороны, одна угодила в лес. Высохшие ели моментально вспыхнули.
Гроза скакала в небе, забыв про облака, которые уже налились до краёв иссиня-чёрной краской, Ветер носился вокруг обломков домика, расшвыривая в стороны листья. А огонь между тем незаметно садился ему на хвост и захватывал новые участки леса.
— Ого! Как же круто! — Восклицал расходившийся Ветер. — Если бы не ты, Гроза, я никогда бы на такое не решился! А теперь… Теперь я смог доказать Смерчу и всем остальным, что я не какой-нибудь слабенький ветер, а настоящий Ураган!
Гроза закашлялась от дыма. Огонь в одночасье поднялся до верхних веток деревьев. Небо вокруг стало красным. Горячие щупальца пожара жадно тянулись к городу.
— Что такое? Пожар? — хрипела Гроза, наконец, увидев, что произошло. — Ветер, ты разносишь огонь! Всё горит!
Ветер её как будто не слышал:
— Летим скорее к морю, мне срочно нужно рассказать обо всём брату. Он вот-вот будет на пляже, вон уже его силуэт над морем виден!
— Стой! Только не обратно! — просипела Гроза.
Но было поздно. Ветер устремился к городу.
Люди на побережье замерли. Что доберется до них первым: смерч с моря или огонь с гор? А ещё говорят, у природы нет плохой погоды…
Не в силах кричать из-за дыма, Гроза сквозь щёлочки глаз видела, как Ветер уносился вдаль, только пятки сверкали огнём. От дыма у неё навернулись слёзы. Слёзы! Вода! Вот, что поможет. Конечно! Надо заплакать!
Но сколько бы Гроза ни пробовала, слёзы не желали литься. Ни от обиды, ни от облегчения. Сухо!
— Ну давай, плакса, ты можешь! Вечно рыдаешь без повода, а сейчас что? Сейчас это просто необходимо! — металась из стороны в сторону Гроза. Но ничего не получалось.
Тогда Гроза в ярости раскидала остатки своих молний, швырнула облака в сторону моря, а затем без сил опустилась на землю — и тут слёзы пошли сами собой.
Гроза плакала долго и сильно. Впервые в жизни она не чувствовала вины за слёзы, она просто давала им волю. Дождь встал щитом на пути огня, пока и вовсе не затушил.
Тогда Гроза встала и пошла по следам Ветра. Плакать было легко и приятно, даже останавливаться не хотелось. Пока она дошла до города, от пожара не осталось и следа. Небо снова стало привычно василькового цвета, облака — фиолетовой сахарной ватой.
Притихший Ветер сидел у обрыва и боялся поднять на Грозу глаза. Смерч гулял далеко в море и не собирался возвращаться домой. Гроза пристроилась рядом с Ветром, всё ещё тихонько всхлипывая.
— Ну и пускай, пускай, я плакса. Пускай растяпа. Пусть дразнят, — шептала себе под нос Гроза. — Я — это я. Не хочу больше думать, что там обо мне подумает Радуга. Или люди. Пусть не любят. Пусть боятся. Мне всё равно!
Ветер окутал Грозу теплом и что-то тихо пропел ей на ухо.
Никто из них не услышал, как люди в городе радостно кричали и благодарили небо за дождь. Дети высыпали на улицы, а старики в столетних домах с облегчением выдыхали. Ведь нет ничего опаснее в конце жаркого лета, чем сухая гроза.
Глава 5
Миллион дождевых капель
Только-только Гроза начала успокаиваться, как сквозь облака стало проглядывать Солнце. Значит, и Радуга где-то рядом.
— Сейчас опять будет издеваться, — вздохнула Гроза.
— Не буду, — внезапно появилась Радуга.
Она не спеша уселась посреди моря, расправляя семь слоев юбки, и раскинула руки в разные стороны, образовав правильный разноцветный полукруг. — Я видела, что ты сделала… Как ты справилась с огнём. Я и не знала, что ты так умеешь, что ты такая… в общем, просто хочу извиниться.
Гроза недоуменно посмотрела на Радугу.
— За что?
— За то, что обзывала плаксой.
Немного помолчав, Радуга смущённо добавила:
— Все думают, что я никогда не плачу, что не умею грустить, — Радуга на секунду подняла голову и сверкнула белоснежной улыбкой, потом опустила глаза и стала водить руками по водной глади.— На самом деле, я и есть слёзы: полностью состою только из дождевых капель. Вы не знали? А яркие цвета — это лишь отблеск заслуг моей звёздной мамы.
Гроза молчала. Она никогда не видела своей семьи, даже не знала, кто это. Но сейчас ей подумалось, что она могла бы стать хорошей старшей сестрой.
Радуга подняла взгляд на Грозу и ждала ответа. Молчание затянулось, она бледнела на глазах. Прежде чем Радуга исчезла, Гроза успела ей громко крикнуть:
— Может быть, завтра на уроке Атмосферы Ивановны сядем вместе, и ты поможешь мне с контрольной?
— Конечно! — сразу засветилась Радуга. — Пора исправлять твои двойки, правда?
— И покажи, как ты приманиваешь певчих птиц, а то при виде меня они обычно разлетаются, — Гроза взмахнула руками в стороны, показывая, как именно от неё улетают птицы, и, конечно, стукнулась локтем о маяк.
— Ай, больно! Понаставили тут своих маяков.
— Тихо-тихо, не сердись, — Ветер подул Грозе на синяк. — Думаю, на сегодня хватит приключений.
— Как будто это я огонь разнесла по округе, — фыркнула Гроза.
— Я не специально. Я даже не заметил пожара, пока к городу не подлетел. Вовремя успел повернуть к скалам и нырнуть в море… Ох, ещё бы немного…
Ветер замолчал. Таким неподвижным Гроза ни разу его не видела.
— Ладно, не переживай! Всё же обошлось, — подтолкнула она друга здоровым локтем.
— Да, правда… — Ветер подбрасывал в воздух брызги и пытался поймать их на лету. — Как думаешь, папе обязательно об этом рассказывать? Или я зря надеюсь, и он всё равно узнает? Вот мне влетит, так влетит…
— Очень влетит! По самые вихри! — улыбнулась Гроза.
— Нам всем влетит! — Радуга еле сдерживала хохот.
Подруги прыснули от смеха. Тучи разбежались в стороны, и чистое небо украсила россыпь прозрачных водяных капель, переливающихся на солнце всеми цветами, словно миллион крошечных зеркал.
Ветер подхватил их и выбросил на набережную, отчего мальчишки на улице завизжали от восторга. Тогда он присвистнул и тут же сделал несколько сальто с водорослями над пирсом — его фирменный трюк.
Радуга с Грозой смеялись, болтали ногами в море, Ветер носился по пирсу, играя с детьми. Брызги летали повсюду, отражая лица друзей. Сколько капель, столько и ракурсов. В этом и есть главный плюс непогоды: после неё обязательно будет ясно.